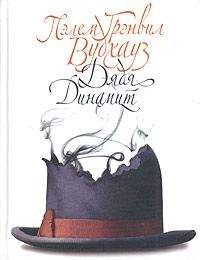Леонтий Раковский - Кутузов
Выйдя на дорогу, солдаты пошли ровным, заученным солдатским шагом. Черепковский шел не оглядываясь, а Табаков несколько раз оборачивался и махал рукой.
VI22 октября у самой Вязьмы неутомимый Милорадович, командовавший авангардом, атаковал сильно отставший от прочих своих эшелонов арьергард Даву.
На выручку арьергарда из Вязьмы вернулись полки вице-короля, Понятовского и маршала Нея. Французы упорно защищались, но были сбиты, потеряли большой обоз, до двух с половиной тысяч пленными и шесть тысяч убитыми и ранеными.
Милорадович вошел в Вязьму с музыкой.
Французам с каждым днем становилось труднее отступать. Провиант, который неделю тому назад армия Наполеона взяла с собой из Москвы, подходил к концу. Раздобыть что-либо по дороге было трудно — всюду рыскали зоркие казаки и партизаны, и потому армейские корпуса "великой армии" начали терпеть голод. Вот теперь многие пожалели, что бросали на дороге фуры с провиантом, а не награбленное добро: люстры, фарфор, картины, ковры не могли заменить ни муки, ни крупы, ни соли.
Михаил Илларионович писал жене из Ельни 28 октября:
"Я, мой друг, хотя и здоров, но от устали припадки, например: от поясницы разогнуться не могу, от той же причины и голова временем болит.
По сю пору французы все бегут неслыханным образом, уже более трехсот верст, и какие ужасы с ими происходят. Это участь моя, чтоб видеть неприятеля без пропитания, питающегося дохлыми лошадьми, без соли и хлеба. Турецкие пленные извлекали часто мои слезы, об французах хотя и не плачу, но не люблю видеть этой картины. Вчерась нашли в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища. А что с ими делают мужики!"
В эти же дни выпал снег.
Кутузов, еще после Бородина предвидевший зимнюю кампанию, заранее позаботился о том, чтобы армия была снабжена полушубками, сапогами, валенками. Войска в большинстве были обуты, одеты, имели хлеб, мясо и вино, но все-таки дело шло к зиме, и в одном из своих приказов главнокомандующий счел нужным напомнить об этом:
"Итак, мы будем преследовать неутомимо. Настает зима, вьюга и морозы. Вам ли бояться их, дети севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается. Вы будете уметь переносить и кратковременные недостатки, если они случатся. Добрые солдаты отличаются твердостью и терпением, старые служивые дадут пример молодым. Пусть всякий помнит Суворова: он научил сносить голод и холод, когда дело шло о победе и славе русского народа. Идем вперед, с нами бог, перед нами разбитый неприятель; да будет за нами тишина и спокойствие".
VIIИ все-таки сказывались годы. На беспрерывном марше, в старой тряской коляске, на неудобных ночлегах, где Михаил Илларионович по давней военной привычке спал не раздеваясь, он в конце концов натрудил поясницу. С ним приключился "прострел" — не смертельная, но противная, нудная болезнь. Лежишь — кажется, здоров, нигде ничего не болит, а встать нельзя.
Ничипор, знавший эту частую гостью барина, накалил в печке кирпич, завернул его в мешок, и Михаил Илларионович должен был спать на кирпиче. Он смог так полежать одни сутки. Тепло помогало, становилось легче, но разлеживаться было некогда — впереди ждал Наполеон.
За эти сутки лежания в избе Михаил Илларионович многое передумал. Он написал Кате письмо:
"Если вдуматься и обсудить положение Бонапарта, то станет очевидным, что он никогда не умел или никогда не думал о том, чтобы покорить судьбу. Наоборот, эта капризная женщина, увидев такое странное произведение, как этот человек, такую смесь различных пороков и мерзостей, из чистого каприза завладела им и начала водить на помочах, как ребенка. Но, увидев спустя много лет и его неблагодарность, и как он дурно воспользовался ее покровительством, она тут же бросила его, сказав "Фу, презренный! Вот старик, — продолжала она, — который всегда обожал наш пол, боготворит его и сейчас, он никогда не был неблагодарным по отношению к нам и всегда любил угождать женщинам. И чтоб отдохнуть от всех тех ужасов, в которых я принимала участие, я хочу подать ему свою руку, хотя бы на некоторое время…"
Фортуна подавала руку старому русскому фельдмаршалу: уже был освобожден полуразрушенный, полусожженный Смоленск, где французы, отступая, побросали много пушек; а через несколько дней, в четырехдневном упорном бою при Красном, русские войска нанесли армии Наполеона страшное поражение — она потеряла двести шестнадцать орудий и двадцать шесть тысяч пленными.
Впрочем, пленных было гораздо больше: ни у кого не хватало времени заниматься их точным подсчетом.
Офицеры и солдаты русской армии рвались в бой. Они отказывались сопровождать пленных и только указывали им направление, куда надо идти.
— Адье! — отвечали пленные.
— Да, да, одне! Идите, приятели, одне. Нам некогда с вами возиться!
— Ишь, зяблики голоштанные, уже выучились плясать русского трепака! — беззлобно шутили солдаты, увидав, как, согреваясь, пританцовывали французы, португальцы, голландцы, пруссаки.
— Я подбежал к ним, а один и кричит: "Ляви, ляви!" Чего мне, говорю, ловить-то, коли вы и так от нас не убежите! — обменивались впечатлениями солдаты.
Вечером 6 ноября, получив донесение от Милорадовича о последнем дне сражения у Красного, Кутузов поехал к бивакам гвардии. Семь кирасир везли за главнокомандующим отбитые у французов знамена. Обычно фельдмаршал ехал шажком, а тут примчался рысью.
— Здорово, молодцы семеновцы! — громко крикнул он, подъезжая к палатке командира дивизии генерал-лейтенанта Лаврова. — Поздравляю вас с победой. Вот гостинцы вам привез! — указал он на французских орлов. — Эй, кирасиры, нагните-ка пониже орлов! Вот так, пусть поклонятся молодцам! Матвей Иванович Платов донес, что взято сто двенадцать пушек и — сколько генералов? — обернулся он к Резвому.
— Пятнадцать, — быстро ответил Резвой.
— Слышите, друзья? Пятнадцать! — подчеркнул Михаил Илларионович. — Пятнадцать генералов! Ну если б у нас взяли столько! Сколько бы осталось? А? — хитро посмотрел главнокомандующий на улыбавшихся семеновцев, которые окружили его. — Пушки можно сосчитать, да и то не верится. А в Питере, как услышат — пятнадцать генералов, чай, скажут: хвастают ведь. Вот как! Ура, братцы!
Семеновцы так дружно и весело гаркнули "ура", что старый конь фельдмаршала затряс от неожиданности ушами.
Кутузов слез с коня. Казак, ехавший за ним, тотчас же подал Михаилу Илларионовичу его походную старую скамеечку. Главнокомандующий сел в кругу офицеров.
Николай Иванович Лавров, зная, что фельдмаршал любит чай, распорядился поднести ему горяченького — большой медный чайник стоял на угольях костра.
Кирасиры, везшие французские знамена, спешились и стояли позади Кутузова. Седой фельдмаршал сидел под пестрой сенью отбитых французских знамен.
Молодой семеновский поручик, оказавшийся у знамен, бестактно прочел вышитое на французском знамени золотом поперек красно-сине-белых шелковых полос: "Аустерлиц". Прочел он это достаточно громко.
— Что, что? — полуобернулся Кутузов. — Аустерлиц?
Недогадливого поручика уже толкали под бока товарищи.
— Аустерлиц… — виновато повторил покрасневший поручик.
— Да, под Аустерлицем было жарко, но я перед всем войском умываю руки: неповинны они в аустерлицкой крови! — громко сказал Кутузов, обводя всех своим одним зорким глазом. — Вот хоть и теперь, к слову сказать: выговор за то, что дал капитанам гвардейских полков бриллиантовые кресты за бородинскую победу. Говорят, я нарушаю предоставленное мне право: бриллианты принадлежат кабинету. Это правда. Но и в этом я виноват без вины. Если разобрать по совести, то теперь каждый, не только старый солдат, а и новичок ратник столько заслужил, что, осыпь его алмазами, он все еще не будет достаточно награжден! Ну да что и говорить. Истинная награда не в крестах и медалях, а в нашей совести!
— Верно, верно! — загудела внимательно слушавшая толпа гвардейцев, офицеров и солдат.
Михаил Илларионович прихлебнул из чашки крепкого чайку и продолжал:
— Вот расскажу вам, дети, как за штурм Измаила получил я Георгия третьей степени и потом представлялся матушке царице. Иду я себе, горжусь, думаю: у меня Егорий на груди. Дохожу до кабинета, отворяются двери, и передо мной царица. Что со мною сталось, и теперь не опомнюсь. Забыл и про Егория, и про то, что я Кутузов. Ничего не видел, кроме ее очей! — закончил Михаил Илларионович и полез в карман за платком: правый глаз слезился.
Толпа молчала.
— Это напоминает сцену из трагедии "Дмитрий Донской", — несмело сказал семеновский капитан, желавший как-нибудь загладить неудачно вырвавшееся слово своего товарища, вспомнившего Аустерлиц.
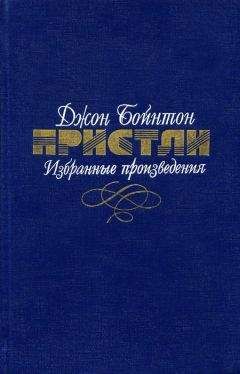
![Вера Кауи - Такая как есть [Запах женщины]](/uploads/posts/books/6935/6935.jpg)