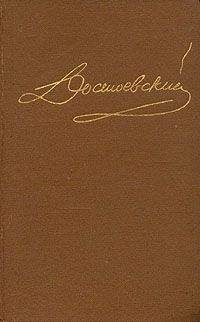Михаил Филиппов - Великий раскол
Спрашивал он как-то царевну Татьяну Михайловну, а та махнула рукою и молвила:
— Выбирай по сердцу, а я коль скажу, так потом пенять будешь. Мне что? Лишь бы ты счастлив был да любил жену.
Ушел он к себе: а нельзя не решиться, завтра нужно кончить дело…
В то время, как он в таком раздумье расхаживает по своим хоромам, к нему входит Лучко.
— Что, Комарик, скажешь?
— Да вот, великий государь, моя челобитня: пожаловал бы де меня, великий государь, да дозволил бы жениться на стольнице царевны Татьяны Михайловны, Меланье. Она тоже небольшая.
— Как? Тебе, Комарику, да жениться?..
— Уж дозволь, великий государь. И мои Комаришки служить будут и твоему царскому величеству, да и деткам твоим. Полюбились мы с Меланьюшкою и жить-то не можем друг без дружки. Умница она, а сердце — душа, не человек: говорит, как по-писанному.
— Счастлив ты, Комаришка, что с невестою-то побалагурить можешь да узнать и сердце ее, и разум. Вот нам так и невозможно: таков обычай… А с моими-то невестами говаривал ты?
— Как не говорить: по целым часам, аль я рассказывал, аль — они.
— Кто же из них добрее, сердечней, да умней?
— Доброта-то у Авдотьюшки необычайная, а у Наташи — палата ума… бойкая…
— Кто же тебе больше нравится?..
— Прости, великий государь, а я-то тряпок не люблю… хоша б и Авдотьюшка; плачет, коль воробышек из гнездышка упадет. Точно, сердце у нее доброе… да разумом-то слабенька, ведь сотни-то ей не счесть и не сообразить. Иной раз толкуешь ей о разных порядках целый час, а она ни в зуб, и колом-то не втешешь ей. Ино дело Наташа: смекалка необычная. Намекнешь ли, она не токмо лишь поймет, но и дальше метнет. Коли по красоте, так далеко ей до Авдотьюшки, — та точно ангел небесный. Зато сколько разума в глазах, да и во всем лице Наташи: вся-то ее душа и ум в нем. Как же, великий государь, соизволишь ты пожаловать меня да разрешишь жениться?
— Можешь, и пущай свадьбу справят здесь. А тебе, за честное слово твое, спасибо.
Ушел Лучко, а царь пошел в свою крестную и горячо молился.
На другой день в Золотой палате собрались все боярыни, родственницы и придворные.
Царь сидел в особенно приготовленном ему кресле, и было только две невесты. На столе, сбоку кресла, лежал кусок парчи, ширинка и на ней кольцо.
Ввели обеих невест: Беляева, в белом блестящем наряде невесты, была еще более ослепительно прекрасна, а Нарышкина много потеряла: лицо ее не подходило к этому костюму.
Боярыни все ахнули, взглянув на Беляеву, и стали вперед шептаться: куда-де устоять Нарышкиной.
Первую подзывают к царю Беляеву.
Величественно она подходит к нему и становится на колени. Красота ее сильно его поражает. Он колеблется, медлит и жадно на нее глядит.
Сердца все замирают и следят за рукою царя.
Он подымается и, взяв ширинку, с минуту стоит в нерешимости. Но вот он кладет ее назад — и парча очутилась в руках Беляевой. Ошеломленная, та целует его руку, встает и отправляется на свое место.
Наталье Кирилловне становится дурно: она не ожидала сделаться победительницей. Такой красавицей показалась ей Беляева, что она сама дала ей первенство.
Шатаясь, подходит к царю Наташа и становится на колени.
Царь подает ей ширинку и кольцо.
Она целует его руку и истерично начинает рыдать.
— Успокойся, Наташа, — произносит Алексей Михайлович взволнованным голосом и, взяв ее за руку, подымает с колен и ведет на престол царицы. — Отныне, — произносит он громко, — ты нарекаешься царицею Натальею Кирилловною, а перед мясопустом Господь Бог соединит нас перед алтарем.
Меж боярами раздался шепот и ропот:
— Околдовали царя… Дали ему приворотный камень…
— Покрывало сбрасывала, — шипела одна.
22 февраля 1671 года царь Алексей отпраздновал торжественно свою свадьбу, и в день свадьбы Матвеев и отец Наташи возведены в бояре.
Нащокин вскоре получил отставку, и место его занято Матвеевым.
Не вынес такой обиды гордый и надменный Нащокин и несколько лет спустя поступил в монастырь.
Зато день свадьбы был радостен для Лучка. Женившись За год перед тем, он в этот день праздновал рождение сына Ивашки. Меланья родила ему такого же крошку, как и он сам, и он, прыгая на одной ноге, пел:
— Ивашка Комарик! Ивашенька, душечка! Ивашка, родненький!.. Ну, уж Меланьюшка, скажет тебе спасибо царь…
— Отчего же царь? — недоумевала Меланья.
— Да ведь это хлопчичек царский, не наш…
И Лучко прыгал, вертелся, целовал родильницу и дитя.
XLIII
Облегчение участи Никона
Год женитьбы был радостен и счастлив для царя Алексея Михайловича: восточная Малороссия окончательно умиротворилась, а западная, приняв подданство султана, дала ему возможность не возвращать Киева Польше и даже надеяться на присоединение к себе и этой части.
Мятеж же Разина тоже утихал, по милости побед царских войск.
В декабре князь Юрий Долгорукий теснил Темников. 4 декабря, за 2 версты от города, встретили его темниковцы и обещались ему выдать попа Савву и восемнадцать человек воровских крестьян, да и сподвижницу Федьки Сидорова, Алену, вора-еретика-старицу. Приказал Юрий Долгорукий изготовить виселицу и сруб и повесить велел до света попа и крестьян, а в срубе сжечь Алену…
Схватили Алену и повлекли в земскую избу и поставили сильный караул.
Мама Натя начала готовиться к смерти. Радостно ей было, что она умирает за Никона и за крестьянство, т. е. за его идею. Молилась она горячо… горячо… и представилось ей все ее прошедшее: и счастливая ее жизнь в Нижнем, и Хлопова, и дети ее… потом промелькнул величественный образ Богдана Хмельницкого, — тоже сражавшегося за крестьянство… представился образ Стеньки, — и она невольно вздрогнула, вспомнив смерть персидской царевны… Но не жалела она о жизни: после низложения Никона она перестала верить в правду на земле, и омерзительны сделались в глазах ее все власть имущие.
— Да и чего-то мне, старухе, жалеть о жизни? Вот Савва, тот молодой, да и молодую жену имеет, и того завтра на виселицу… Да говорят, собирается он на смерть как на пир. Сказывают: князь Долгорукий говорил-де ему: «Повинись, и жизнь дарую», а тот: «Каются грешники, а я душу кладу за овцы».
Так думает она, но сердце ее вдруг замирает… дверь избы отворяется… Это пришли за нею… схватывают ее мощные руки… влекут ее из избы, а на ее место бросают что-то тяжелое… Ночь темна… ее садят в сани, и лошади мчатся…
На другой день, до рассвета, собирается за городом народ, войска, привозят попа Савву и крестьян и казнят их, а сруб сжигают с Аленою.
Крестясь и молясь, расходится народ. Об этом доносится в Москву, и там у бояр радость неописанная: попа-де повесили, а колдунью-де сожгли.
Наконец получена весть о полонении донскими казаками самого Стеньки и о том, что он уж на пути в Москву.
6 июня 1671 года в Москве было зрелище, невиданное ею со времени казни боярина Шеина: готовилось исполнение приговора о четвертовании Стеньки Разина.
Царь и двор отсутствовали: они находились в загородных дворцах.
С самого раннего утра Лобное место было уже занято народом и войсками; а в девять часов показалась повозка, на которой сидел преступник и заплечный мастер. Стенька был спокоен и кланялся по обе стороны с такою важностью, как будто это было торжественное шествие для его прославления: он шел положить голову за овцы.
Народ был безмолвен и мрачен.
Когда взвели преступника на помост, он поцеловал крест, который подал ему священник, и поклонился во все четыре стороны. Он хотел говорить, но барабаны ударили и заглушили его голос.
Стенька снова поклонился народу, подошел к плахе и положил на нее правую руку — палач ее отсек. Без всяких криков Стенька положил на то же место другую руку — ее тоже отсекли. Потом его схватили, отсекли ему ноги, а там уж положили на плаху и отрубили голову.
Затем, когда палач схватил голову за волосы, показал народу и дал ей оплеуху, громкий крик негодования и угрозы народа были ему ответом.
Гроб, в который положено было тело, провожала до кладбища огромная масса народа, а палача осаждали, чтобы он продал части одежды казненного. Самое дерево, на котором казнен Стенька, кусочками разобрано, как какая-нибудь святыня.
Зато государство успокоилось: крестьянский мятеж потушен, и бояре получили возможность окончательно закрепостить народ. Стенька Разин, однако же, дал им урок: они сделались со своими холопами человечнее.
Алексей же Михайлович с прекращением смуты совершенно изменился: он повеселел, и подвижная и игривая Наталья Кирилловна вместе с Матвеевым начали, занимать царя светским пением, музыкою и готовили комедийные действия.
Матвеев из своей дворни образовал целый оркестр трубачей, накрачей, сурначей, литаврщиков и набатчиков и увеселял царя, а органисты играли на органах разные народные песни.