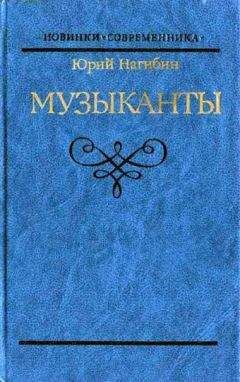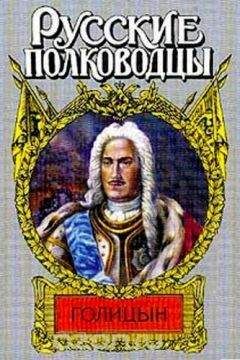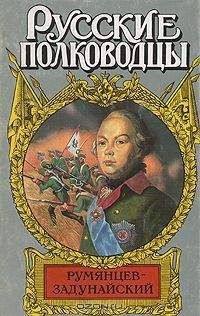Наталья Павлищева - Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)
Церковный сторож нагнулся над Варфоломеем и зашептал ему на ухо. «Куда же тебя стрелой ударило?» – подумал Василько, и его взгляд поплыл по полу, ухватил дрогнувшую бородку попа…
Перед Васильком лежал его недруг, и он не испытывал сейчас к нему ни гнева, ни жалости, ни раскаяния, а только трепет перед смертью и вину за то, что попу вот-вот суждено испить смертную чашу, а ему еще не сподобилось. «И мой конец скоро придет. Долго ли ждать?.. День, два? А может, часы?» – предался невеселым раздумьям Василько и удивился тому, что он, видевший в последние дни много смертей, так чувствительно воспринимает близкую смерть человека, которого не любил и остерегался.
Он решил не докучать себя мрачными мыслями. «Как испустит поп дух, так погоню сторожа и дьячка на прясло! Отведу их к Дрону, тот не даст им спуску», – решил он.
– Отхожу, Василько, – внезапно молвил, не открывая очей, Варфоломей. Голос у него был слабый, дребезжащий, и говорил он так, как будто по своей воле покидал белый свет.
«И так видно, что ты не жилец», – помыслил Василько и усиленно принялся подыскивать нужные глаголы для утешения.
– Вот… видишь… отхожу… с грешной земли, – снова рек Варфоломей. Ему будто не хватало силы, чтобы высказать свою мысль. Израсходовав ее малый запас на одно слово, он замолкал, как бы для того, чтобы найти в потаенных углах хиреющего тела немного усилия, произнести еще слово и в другой раз искать силу.
Лицо попа и тусклые глаза, которые он только что немного приоткрыл, – бесстрастны, как казался бесстрастен голос. Думалось, что Варфоломей уже на небеси, но напоследок вспомнил, что негоже уходить в лучший мир с отягощенной душой. Может, он сейчас поморщился только потому, что опять предстояло окунуться в греховные мирские дела и, окончательно уверившись, что без этого не обойтись, собрался с духом и заговорил сильнее:
– Отхожу… нет на душе покоя… Грешен я, грешен… Сколько лет наставлял паству на путь истинный, дела добрые, а сам… Надобно душу спасать, пока не поздно… Будто про меня сказано: в чужом глазу соринку узрел, а в своем бревна не приметил. Срамно и тяжко мне. Потому и маюсь.
Варфоломей повернул немного голову набок, чтобы получше видеть Василька. Его очи смотрели так трогательно и беспомощно, что Василько не перенес его взгляда и потупил взор.
– Как ты приехал на село, так помутился разум мой, – продолжил Варфоломей – Не по сердцу мне был твой приезд… Наехал, думаю, новый володетель, и пришел конец моей вольницы. То бес в меня вселился.
Варфоломей глубоко вздохнул, и что-то заклокотало в него в груди. Он застонал и забился в кашле; его лицо исказилось, на губах запузырилась кровь. Сторож встал между ним и Васильком и принялся поправлять свесившуюся с лавки голову Варфоломея. Поп продолжал кашлять надрывно и с похрипом; думалось, что с кашлем душа покидает умирающее и сделавшееся ненужным тело. Иногда, в те мгновения, когда кашель отпускал попа, он успевал кликнуть Василька, но тут же его вновь начинало трясти и подбрасывать; ноги, как бы желая облегчить телесные страдания, то подтягивались к животу, то распрямлялись.
Василько бесцельно рассматривал широкую спину церковного сторожа и чувствовал, что его качает от усталости и от спертого воздуха. Он на время забыл, где находится: кашель Варфоломея становился все отдаленнее и глуше, сумрачный свет лампадки разбивался на множество светящихся точек, которые кружились и колебались. «За какие мои грехи пристал ко мне поп? Истомился я вконец, а тут зри на все это. Немало досадил мне поп и еще напоследок измывается», – внутренне негодовал он.
– С той поры принялся… я тебе… ковы строить, – вновь заговорил Варфоломей. Он уже будто пришел в себя, но молвил так, будто ему не хватало воздуха. Он был весь в крови, которая затаилась в уголках губ, красила нижнюю часть лица, седенькую бороду и низкий ворот сорочки.
Сторож отошел чуть в сторону, остановился в самом изголовье, между лавкой и иконами, и принялся неторопливо вытирать с лица Варфоломея кровь, мешая попу говорить. Васильку показалось, что сторож это делал с таким прилежным усердием, словно считал важным не то, что происходит сейчас на стенах, а то, что происходит в молельне.
Скрипнула дверь, Василько обернулся и увидел, что в молельню вошел дьячок. Вслед за ним в молельню вошла женка. Василько обомлел: это была Янка.
– Ты пришла, – сказал Варфоломей, увидев Янку и жестом наказав сторожу отойти от него. Васильку показалось, что поп хотел произнести эти слова как можно теплее.
Янка опять была подле Василька. Она остановилась чуть сзади него. Скосив очи, Василько увидел ее бледное лицо, синюю, чуть подрагивающую паутинку на виске и тронутую пушком ушную мочку.
– Я виноват… перед вами, – с трудом произнес Варфоломей, – вижу: затосковал в одиночестве Василько, и сгадал подсунуть ему норовистую красную девку… Чтобы помучился.
Василько не тотчас понял Варфоломея. Он вопросительно посмотрел сначала на отрешенное лицо попа, затем на зардевшуюся Янку. Вспомнил ненастный зимний день, лениво падавшие снежные хлопья, сани подле открытых настежь ворот, сидевшую на них спиной к хоромам сгорбившуюся Янку, простодушно улыбающегося Пургаса, его сообщение о покупке рабы и растерялся от дикой догадки, что все его мучения, сладкие грезы, надежды были заранее обдуманы попом; и в то время как он страдал от мук ревности, как высоко парил в светлых мечтах, его недруг втайне потешался над его чувствами и смотрел с недосягаемых высот на него так же, как грубый и опытный конюх наблюдает над любовными играми буйного жеребца.
– Ты не сердитуй, Василько… Уже зубами… заскрежетал… За тот грех покарает меня Господь… тяжкими муками. Ты о себе… о себе помысли: за твое… душегубство, за убийство… неповинного Волка примешь многие муки, – молвил злорадно Варфоломей; он резко поднял руку и визгливо прокричал: – Господь-то все видит!
Василька всего трясло. Он едва сдерживался, чтобы одним ударом не выбить из попа дух, и так сильно топнул ногой, что пол под ним содрогнулся.
– Собака!.. Пес, пес! Подыхай же! – гневно вскричал Василько и выбежал из молельни. Даже на смертном одре поп учинил ему великую досаду. Исповедь его была для Василька горше увечья.
Глава 66
Василько остановился на верхнем мосту лестницы, которая выходила на крыльцо. Ждал Янку. Поп опять связал их судьбы своим неожиданным признанием, и Василько желал поведать Янке свои печали и обиды.
– Собакой жил, как собака и издохнет! – выпалил он Янке, когда она вышла на мост. Ему хотелось, чтобы раба тоже вознегодовала на Варфоломея, а затем спросила сокрушенно: «Как же нам теперь быть?» Но Янка задумчиво попеняла ему:
– Негоже так говорить об умирающем.
– Может, мне перед ним на колени встать? – раздраженно спросил Василько.
– Оставь его в покое. Не злобствуй. Грех это… – молвила Янка все так же отвлеченно.
– Что это вы все мои грехи считаете? Вы свои посчитайте! – вспылил Василько.
– Негоже, господин, браниться на лестнице. Идем прочь отсюда, – попробовала осадить молодца Янка.
– Браниться, браниться… – передразнил Василько рабу. – Великоречивы все стали: и ты, и твой поп, и все твои доброхоты, а там, – он указал рукой в сторону стрельни, – не больно говорливы! Там мне за вас биться нужно!.. Про то, что я Волка в сердцах поколол, вы помните, а что которую ночь очей не смыкаю, что изранен, да на татар выезжал в чисто поле и вежу их спалил, вам до того дела нет!
Василько был недоволен тем, что Янка не потакает ему, и не пытался скрыть своего недовольства. Будь сейчас вместо Янки его мать, и так же не соглашайся она с ним, он бы и ей выказал обиду, а затем устыдился бы своей несдержанности.
– Досада великая сердце лижет, – продолжил он уже примирительно и простодушно. – Сколько себя помню, только однажды со мной такое было: бородатый человече игрушку отобрал, свистульку. Как сейчас помню его слова: «Поигрался, малец, теперь пусть мои детки позабавятся!» А было мне три или четыре года от роду.
Приоткрытая дверь, ведшая в горницу, захлопнулась от дуновения ветра, и на мосту, а также на лестнице, которую теснили с двух сторон стены, стало темно. Только едва белела сорочка Янки и угадывался овал ее лица. И то, что на лестнице никого не было, что было темно, что сейчас они снова были близки – все это толкало Василька еще раз поведать Янке о сокровенном, убедить, что он прям с ней и простил ее.
– Вот как нас коварный поп переклюкал! – сказал он. – Я уже не знаю, серчать на него либо благодарить. Не будь этого злобного Варфоломея, не увидел я бы тебя никогда!
Янка молчала. Он слышал ее взволнованное, едва уловимое дыхание.
– Не надобно нам друг друга сторониться: повязаны мы навеки попом. Хочешь, сейчас же обвенчаемся назло татарину? Всем покажем, что не страшимся поганых. Не понуждаю тебя, вольна ты, – просяще и увлеченно молвил Василько.