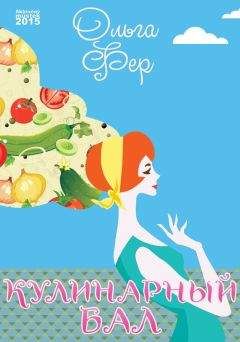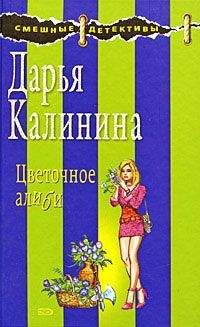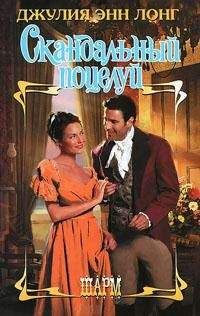Валерий Кормилицын - Разомкнутый круг
– Простите, Мари… Простите меня!..
А она гладила его волосы и, задыхаясь от слез, шептала:
– Отчего вы меня так мучаете?..
Это после он прочел: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».
– А сейчас я покажу вам мою любимую беседку в саду. – Немного успокоившись, только ей известными переходами вывела Максима из дома в сад и, все еще шмыгая носом и вытирая согнутым указательным пальцем глаза, повела его, держа за руку, по узкой дорожке, обсаженной деревьями. Через некоторое время дорожка перешла в тропинку, а сад постепенно превратился в дикий лес.
Справа от себя Рубанов увидел затянутый тиной пруд, а неподалеку от него деревянную, давно не крашенную беседку.
– Вот! – гордо произнесла она, будто перед ними виднелся королевский замок. – Правда же, прелестно? – По-прежнему не выпуская руку, потянула его в беседку.
То ли от буйного цветения сада, то ли от выпитого вина, то ли от близости Мари у Рубанова закружилась голова, и он тяжело опустился на деревянную скамью. Мари присела рядом и, повернувшись к нему, легонько стукнула ладонью по щеке.
– Снова кровь! – с дрожью в голосе произнесла она, и Максим увидел раздавленного комара и капельку крови на ее ладони. – Когда в тот раз я увидела красную розу у его сердца, мне стало плохо, и я отчетливо поняла, что он погибнет… И это случилось… Коли не на дуэли, так в бою! – стерла кровь платком. – Полагаю, между нами не должно быть недоговоренности, ведь так?
«Что ж, она права!»
– Не знаю, прав ли я сейчас. – Расстегнув пуговицы колета, достал письма в бурых пятнах, причем одно из них было располосовано почти напополам… – поверьте, Мари, я не хочу сделать вам больно… Сейчас не хочу… – уточнил он. – Волынский умер на моих руках и перед смертью наказал попросить у вас прощения и передать эти письма.
Может, и не надо было?..
Кровь на них не только его, но и моя!..
«Мальчишка! Не могу без бахвальства», – обругал себя.
– Простите нас обоих! – Взял ее руку и, склонившись, коснулся губами.
Слезы побежали из ее глаз, и, обхватив шею Максима, она зарыдала, прижимаясь мокрой щекой к его груди.
«Волынского оплакивает?.. Или нашу любовь?»
– И вы простите меня… – заикаясь, сквозь слезы произнесла она. – Я молилась за вас… Обоих… – Еще сильнее зарыдала она.
– Ну все? Все! – разомкнул ее руки и поцеловал мокрые глаза. – Полно плакать. Его не воротишь…
– Глупый! Я молилась и за вас! – снова спрятала лицо на его груди. – На именинницу-то не похожа стала… Страшная, как ведьма, да? – подняла она лицо и глянула на Рубанова.
– Ты сама не знаешь, как прекрасна! – Коснулся губами ее щеки. – Как тебя увидел, с той минуты и люблю!..
Глядя в ее глаза, простил ей и Волынского, и ту зимнюю ночь, и шепот пистолета.
– Да! С той поры и люблю! – то ли для нее, то ли для себя повторил он, и на этот раз губы его прижались к чуть распухшим от слез губам, и она с трепетом ответила на поцелуй.
– А отчего же тогда столь вызывающе вели себя и даже не пригласили на танец? – не успев набрать после поцелуя воздух, приступила она к допросу.
– Ну-у! Дык! – развел он руками, напомнив папенькиного лакея в пушистых бакенбардах, и ее неудержимо разобрал смех.
«Ну вот! То плачет, то смеется! Не в моих силах понять женщин, по крайней мере, ближайшие пятьдесят лет…»
– Когда еще вас увижу и где? – подошел к практической стороне вопроса, подумав, что теперь ему не по годам и не по чину, коли перед носом станут захлопывать дверь.
– Здесь же! Каждый третий вечер, – ответила она, подхватив его за руку, и быстро повела в противоположную от дома сторону по извилистой тропинке с кустами смородины и сирени по сторонам.
«Будто ожидала!» – поразился он, сминая ботфортами подорожник и лопухи, обильно произраставшие в неглубоком овраге за прудом, куда привела их тропинка.
Через некоторое время они оказались на поляне, и Максим увидел Волгу.
– Это в стороне от деревни, – стала объяснять Мари. – Вас здесь никто не увидит. Вечером приплывете сюда, и тропинка приведет вас к беседке. Только на этой полянке не останавливайтесь – тут же муравьи нападут, – рассмеялась она. – Да-а! Вот еще что! Не одевайте эту ужасную форму с орденами… Вас в ней за две версты заметно.
«Хм-м! Ну что ж. Оденусь, как очкастый "гений". Целую диспозицию передо мной развернула: откуда зайти, куда прийти, словно не с дамой, а с начальником штаба разговариваю», – улыбнулся он.
– Что?!.
– Да так! Штаб армии вспомнил…
– Вы, мужчины, непонятные существа! – сделала она глубокомысленный вывод и потащила его обратно.
– Зато уж вы, женщины… – не нашел он слов, способных охарактеризовать слабую половину человечества.
Потревоженные лягушки в пруду дико вопили.
«Дурак! Сколько времени потерял… Ведь я лишь ее люблю. А с остальными встречался, дабы узнать, что в мире нет прекраснее тебя, как, наверное, сказал какой-нибудь поэт», – рассуждал он по дороге, вернее, по тропинке к дому.
Все прошло удачно. Их никто не хватился, кроме двух юных барышень.
– К старой деве прилип! – проходя мимо них, услышал он язвительный шепот.
Вечером после дня ангела, для того чтобы все обдумать, Максим оседлал Грешиню и помчался через Рубановку к зеленеющим полям и лесу. По деревне недавно прогнали стадо, и бабы доили коров.
Пряно пахло пылью, молоком и счастьем!..
48
Староста с подрядчиком вели активную подготовку к строительству. Один платил деньги, другой поставлял материал.
Для доставки наняли в Чернавке и в уездном городе всяких бездельников, и они разгружали баржи, причаливавшие в полуверсте от барской усадьбы, – там имелся удобный пологий спуск и до будущей церкви было рукой подать. Рубановские крестьяне, разумеется не за бесплатно, в свободное от страды время, из отпущенного старостой леса мастерили тяжелые долгуши, на которых и возили строительный материал.
Для перевозки Изот купил несколько крупных лошадей-тяжеловозов.
У Максима осталось три фунта золотых монет, а саквояж с остальными деньгами как-то незаметно перекочевал к старосте, и тот единолично распоряжался огромной суммой – по предварительным подсчетам именно столько требовалось для строительства церкви и дома. Тут же в Рубановку зачастили какие-то темные личности из уездного города, и до Максима дошел слух, что староста дает деньги в рост под приличные проценты, а кому идут эти проценты, для всех, кроме старосты, оставалось загадкой.
«Все может быть! – рассуждал Рубанов. – Сразу-то вся сумма не нужна, и свободных денег у него полно. Да черт с ним… Вот ежели не построит, тогда и спрошу!»
А через каждые три дня вечером Агафон перевозил его на лодке к ромашовскому берегу.
«Кто кого перевозит – еще вопрос!» – усмехался Рубанов, так как вторую половину пути обычно греб сам.
Три дня с нетерпением ожидал он этой встречи, и поэтому, когда брался за весла, у Агафона ветер свистел в ушах. Так, по крайней мере, он сам потом говорил. Судно шло со скоростью боевого корвета под всеми парусами и при попутном ветре.
«Адмирал Чичагов с радостью бы взял меня в матросы», – усердно работая веслами, рассуждал Максим.
Напоминающий о благоразумии пистолет, разумеется, он давно убрал на дно своего походного баула.
«Странно у нас с Мари получается… Вся наука де Сентонжа летит в трубу!»
Как всегда, лето пролетело незаметно. Дни становились короче, а ночи длиннее и прохладнее. От занятий греблей Максим раздался в плечах, а мышцы стали железными. Он один свободно вытаскивал лодку на песчаный берег.
Парадный мундир сделался мал, и Максим с трудом застегнул пуговицы, когда однажды направился с официальным визитом в Ромашовку.
«Черт-дьявол! – изумился он. – В чем же я на службу пойду в Петербурге?»
Владимир Платонович встретил гостя без особой радости, но с уважением, и даже отпустил с ним дочь на верховую прогулку.
«Слава Тебе Господи! Хоть рядом лягушки не квакают, – иронично улыбнулся Рубанов. – Теперь, как их услышу, сразу с Мари целоваться хочется! Даже если ее поблизости нет…»
Изот привез откуда-то француза портного и знатного сукна на колет. Поэтому сентябрь Максим активно посещал генерала в новом уже колете, а в октябре попросил руки Мари.
Ответ Ромашова звучал непреклонно и категорично – «Нет!!!».
Не помогли ни слезы дочери, ни уговоры прослышавших об отказе уездного головы и лысого капитан-исправника с женами. Довольны были лишь две ее подруги.
Весь октябрь уездное общество ждало развязки интриги и осуждало генерала: «Зазнался» и «От добра добра не ищут» – был однозначный приговор уездных дам. – «Ну почему нашим дочерям такое счастье не привалило?»
Ромашов хорошо знал, чего можно ожидать от Рубанова, и не сводил с осунувшейся дочери глаз, никуда не выпуская ее из дома.
Максима не велено было пускать даже в Ромашовку.
«Самодур!» – думал о несостоявшемся тесте ротмистр, забыв про сон и потребляя фунты табака.