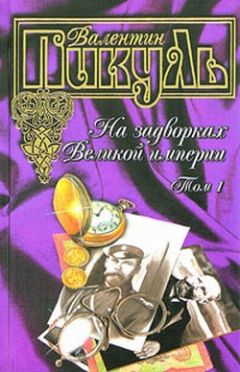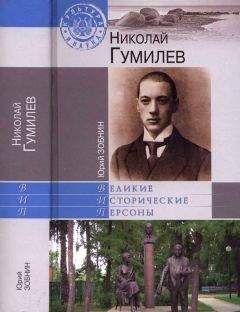Валентин Пикуль - На задворках Великой империи. Книга вторая: Белая ворона
Вот, примерно, какая сцена произошла однажды в этом незаметном доме, притулившемся возле Фрунзенского универмага. Сергей Яковлевич ошибся в том, что сборище было явкой дураков-рамоликов – нет, это был заговор со всеми его ответвлениями. И немецкое командование и впрямь готовило «Санкт-Петербургское губернаторство».
Но, верное своим принципам, оно самолично назначило людей из числа «бывших» на главные посты. Губернатором Петербурга был назначен некий А.М. Круглов[17], завербованный германской разведкой еще в 1916 году. Кандидатом в вице-губернаторы наметили князя Мышецкого, как администратора старого закала, женатого когда-то на немецкой баронессе, а теперь к городу Ленина рвался его сынок – Бурхард-Адольф (Сергеевич) фон-Мышецков…
В середине ноября Мышецкий получил 150 граммов хлеба, а через неделю ему отрезали в булочной 125 граммов. Не только петербуржцу, но и ленинградцу, самому стойкому, – только ноги протянуть. И вдруг – о, чудо! – нашел подброшенную к его порогу коробку. А в ней: мясо, печенье, сухое молоко, шоколад, гематоген. Не ведал бедный старик, что это сын подкармливал своего папеньку, как будущего «вице-губернатора»… Сын стоял под стенами города!
Но рядом, за тонкой стенкой коммунальной квартиры, умирало от голода семейство соседа Коли: жена и двое детей, а старуха-теща уже померла. И Сергей Яковлевич, разжевав на зубах плитку гематогена, отдал всю нечаянную находку детишкам:
– Я уже старый – сказал он, – а вам жить и жить… Помогай вам бог, дети!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Там, среди обугленных сараев Бадаевских складов, земля впитала сожженный сахар. Тянулись через город саночки, качались тени людей, завернутые в одеяла. Мужчины в женских платках, старики в голубом дамском трико, но никто уже над ними не смеялся. Голод погасил смех. И громко рыдало, прислонясь к стене, странное живое существо – не мужчина, не женщина – ворох косынок и тряпок, из которого рвалось стоном, оглашая город – вымерший:
– О-о-о… о-о-о… А-а-а!
– Что с вами? – спросил Мышецкий у этого существа.
– Я потерял карточку на хлеб. А месяц еще начинается… Месяц только начинается, а я уже потерял… карточку! О, горе мое…
Сергей Яковлевич наковырял в мешок просахаренной земли, отвез к себе. Варил землю в кастрюльке, ломал на дрова кухонные столы. Получался сладкий настой земли. И пил эту черную воду… Смерть уже вытянулась во весь безобразный рост. Провалила щеки, затянула взоры ленинградцев мутной пленкой полузабытья. Воды не стало – город горел. Не было сил выносить покойников, и квартиры, полные добра, нажитого трудом поколений, стояли – растворенные. Входи, любой! Живи, бери, что хочешь. А мы лежим вот здесь, на своих кроватях, и ты нас не бойся. Мы – хозяева этих квартир, мы – ленинградцы, погибшие на своем незаметном посту. «Мы не сдались!»
Я и сейчас слышу их голоса:
– Нет, мы только отступили в небытие, тысячи падут, но тысячи и встанут… Похороните нас потом, люди, весною – весной, мы это знаем по себе, весною наш Ленинград еще прекраснее!..
Я заверяю: он был прекрасен и сейчас, и это – не кощунство.
Стыли, опустив дуги, засыпанные снегом трамваи. Дома, взорванные бомбами, обнажали интимные тайны человеческого уюта. В узлы были завязаны кровати, на которых любили, кормили грудью детей, на которых ждали и умирали. В пламени пожаров, под звездами, торжественный и величественный, жил, не умирая, вечный город…
Прижимая к груди теплую бутыль с настоем сладкой земли, шел Сергей Яковлевич на рынок – это страшное торжище красоты и гибели. Тени, тени, тени… Хлеба, хлеба, хлеба! Искали его повсюду, душистого, тяжелого, словно камень. Хлеба, наполовину испеченного из жмыхов, бумаги и дуранды. Из отходов которые раньше безжалостно сжигали в топках паровозов. Из-под ватников и косынок сверкало, отпугивая взоры, чистое золото: «Хлеба!» Пробуженное голодом, золото вдруг всплыло наружу, как накипь прошлого, на блокадных рынках – рынках гибели.
Стояла при входе старуха, похожая на арапку, и, растворив иссохшие ладони, держала в них табакерку с бриллиантовым вензелем забытой всеми императрицы Екатерины Великой.
– И что вы хотите, мадам? – спросил Мышецкий.
– Хлебца, сударь… сто грамм, – ответила старуха. – Вы не думайте обо мне плохо – здесь бриллианты чистой воды. Мой прадед первым взошел на стены Очакова при Потемкине… вот это его табакерка – единственное, что осталось у меня!
И стояли с распухшими фиолетовыми лицами какие-то закутанные мрачные фигуры. В фиолетовых от холода руках они держали студень со странным фиолетовым жиром, застывшим по краям тарелок… Мимо, мимо этого студня! Сергей Яковлевич с трудом обменял бутыль настоя бадаевской земли на плитку столярного клея. Дома он сварил его и долго хлебал ложкой, горячим… «Так хорошо, господи!»
На дворе лежала, сброшенная врагом на парашюте, громадная в тонну весом бомба. И молодая женщина в ватнике, скинув с головы солдатскую шапку, стучала, стучала, стучала… Молотком она сбивала с фугаса зажимные кольца. «Тук-тук», – стучал молоток. «Тук-тук», – стучал метроном радио. «Тук-тук», – стучало в висках…
В эти дни вскрывали полы на хлебозаводе, уже выволачивали на складах мешки, в хлеб шла целлюлоза и обойная пыль. «Тук-тук», – трудилась женщина на дворе, и на нее смотрели черными впадинами глухие молчаливые окна… К вечеру она добилась своего: сковырнула кольца, вывернула из бомбы трубочку запала, сунула ее в карман гимнастерки и ушла, покачиваясь. Дома ее ждали четыреста граммов хлеба и голодные глаза умирающей дочери. «Тук-тук-тук», – стучала она в двери, но ей никто не открыл. И тогда женщина, победившая бомбу, поняла, что уже никто никогда ей не откроет…
…Помню, я спал и мне снилась продуктовая карточка. Большая – в газетный лист. И чьи-то добрые руки резали талон за талоном, и сыпался на стол хлеб. Но даже во сне это не были буханки – это были комки хлеба, черные и серые, каждый точно в 125 граммов весом. Не больше и не меньше!
И я еще ни разу не был на Пискаревском кладбище.
Миша Дудин, ты написал, говорят, прекрасные стихи на памятнике всем павшим в блокаду Ленинграда.
Прости, я не читал их… Я – не могу! Я не забыл…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Два красноармейца с полами шинелей, завороченных за пояса, выросли вдруг из вихрей метели, и – закричали:
– Не стреляй, шпана литовская! Мы же – свои…
Эти двое потом долго шли от Пулкова бодрым солдатским шагом, пока из мрака не выступил силуэт Фрунзенского универмага, зияли в мраморных стенах дыры прямых попаданий, серебристо высвечивали осколки разбитых витрин.
– Здесь, – сказал один, – вот и эта улица… На Софийской, совершенно вымершей, два солдата долго искали нужную квартиру. Жикал в руке фонарик, скользя по номерам. Лестница не имела ступеней: обессиленные жильцы выплескивали нечистоты прямо на лестницы, и образовался ледяной каток. Вот по этому-то катку, цепляясь за перила, двое вползли на четвертый этаж.
Долго барабанили – нет ответа. Рванули двери – открыты.
– Вошли. Жик-жик-жик – фонариком. Комната… Лежат поперек кроватей, вскинув застывшие ручонки в варежках, дети. Мертвые. А возле погасшего камелька сидит мать. Тоже мертвая.
– Не здесь, – сказали пришельцы с передовой, вступая в другую комнату. – Вот он… вот он!
Пахло, пахло… Стояли на остывшей печурке сковорода, а на ней – подгорелые комки лошадиного навоза. И лежал старик, завернувшись в пальто. Руки его, бессильно брошенные, были испачканы в навозе и возле рта было тоже черно… Ел! Недавно он ел…
Пришельцы постояли молча. Один из них взялся за пульс.
– Нет, – сказал, – он еще жив… Князь Мышецкий!
Руки Мышецкого заерзали вокруг. Шаря, что-то выискивая.
– Что он ищет? – спросил один.
– Карточку, конечно… успокойте его!
Заворотили ему пальто. Вздернули старику рубашку. Обнажилась желтая сухая спина. Глубоко вошел шприц в это тело, мутная вакцина, оживляющая человека, побежала по крови, отгоняя призрак смерти. Потом влили в рот Мышецкому коньяк, и он открыл глаза – уже смотревшие из другого мира.
Перед ним стоял его сын – по батюшке Сергеевич, но, скорее, Бурхард-Адольф… И его товарищ по черному делу – барон Бильдерлинг, капитан вермахта, отныне (но не навсегда) лужский помещик.
Стягивая с себя шинели, располагались как дома. Как в казарме. Ломали стол – топили печурку. А сковородку с навозом выкинули в коридор, как погань. Она задребезжала в пустой квартире – страшно. У них в мешках было все – от обоим с ракетницами до обильной жратвы, завернутой в целлофан и жесть.
Пленка смерти исчезла с глаз Сергея Яковлевича, зрачки посвежели, и он, глядя на родного пришельца, думал о себе: ведь это он сам, только еще молодой и красивый, и все это – бред, это уже не он, а некто иной… И это и есть – смерть!