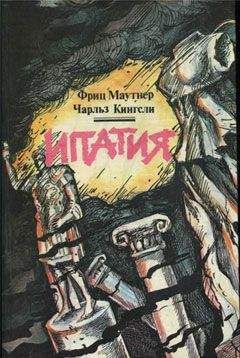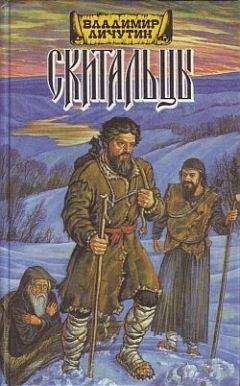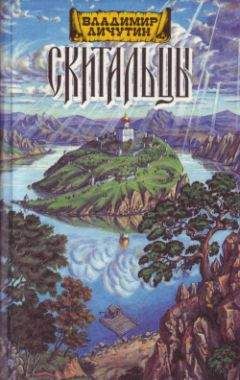Владимир Личутин - Скитальцы
После повечерия в сплошной тьме, изредка прерываемой редкими газовыми рожками, со всей Москвы съезжаются на моления братия и посестрия из корабля Громова. На иной улице где-то оставят пролетку, коляску иль просто ломовую телегу, нанятую по случаю и дешевизне, и уже сюда, к погруженной в молчание усадьбе, добираются пеши, не проронив ни звука. В ворота колотнется трижды такой человек и оглянется кругом – не следят ли – и еще дважды колотнется; тут дверца, придержанная изнутри цепью, слегка приоткроется, и страж с уличным фонарем посветит в лицо, спросит хмуро, настороженно: «Зачем пришли?» – «Сын Сиона», – раздастся шепот. И гость, провожаемый другим охранником, идет в дом.
Слетелось «белых голубей» всех чинов человек с триста, не менее. Клавдя встречал их на входе, весь в белом, с головою, ухоженной лампадным маслом, с кротким, сияющим взглядом пестрых глаз. Ведь ради него собираются сегодня «агнцы», чтобы принять сиротину в свое лоно. И сейчас, встречая их и прицениваясь к каждому богомольщику своим умом, Клавдя узнавал многих и каждому льстил особым образом, надеясь в будущем иметь выгоду от знакомства. Он видал их за меняльными столами в самых дальних уголках Москвы, в торговых рядах, в лабазах и глубинах магазинов. Тут были и отцы-благодетели, миллионщики Солодовниковы, Кудрины, Плотицин из Моршанска, по торговым делам бывший в престольной.
В шестьдесят девятом году Плотицина арестуют за скопческую ересь, и деньги тут окажутся бессильны, ибо к той поре новое время наступит в России, иные суды: его приговорят к ссылке на поселение в Восточную Сибирь с лишением всех прав состояния. А денег у него было так много, что чины следственной власти считали их три дня и, насчитав восемнадцать миллионов, больше считать не стали, а запечатали все остальное в мешки и сложили эти мешки в кладовую, сдав на хранение сыновьям Плотицина. Но это случится лишь через двадцать лет, когда ой туго придется «белым голубям», опленают их крыла и далеко распихают по углам русской земли...
И заполняли «Горний Иерусалим» парни, похожие обличьем на девок, и девки, смахивающие на парней, сухие желтолицые мужики, будто насквозь выпитые животным червем, все несколько гнусавые, тенористые, с сухими, скорбно поджатыми губами; явился старец Перфильюшка, оскопившийся прошлым летом на сто четвертом году, и монахиня Акулина, боровшаяся с самим дьяволом девяносто лет, и вот на девяносто первом стало ей невмочь, задушил соблазн, и она самой себе прижгла груди раскаленным железом, едва не преставившись. А нынче шла бойко и всею дорогой через двор и после, длинным полутемным коридором, напевала сладенько: «Ты свети, свети, месяц, обогрей ты нас, красно солнышко...» Другою, тайной тропой через сад (видно, имел ключ от задней калитки) явился апостол Миронушко, весь белый, как призрак иль большая птица-лебедь, отвыкшая летать: он и шел-то странно, подволакивая отстающие от тела ноги, будто разогнался однажды, христовенький, и не может остановиться; и руки, высоко вздернутые в локтях, походили на подбитые махалки. Перед Клавдей остановился, озирая его смутное, обробевшее лицо, после троекратно облобызал и еще раз обсмотрел уже всего, с макушки до пят, наверное, готовил к булатному ножу, коим крестил на Руси сорок пять человек, больше всего отроков. Умел Миронушко говорить сладко, напевно, умел очаровывать встречное слабое сердце и Бог знает чего наобещать, насулить в будущей жизни. И верили же ему, еще как верили, когда шли на заклание, ложились под нож, иль бритву, иль долото, начисто пресекая будущую родову свою. Покинув Клавдю, пролетел Миронушко длинным коридором, путаными переходами спустился в подвалы, встал на пороге в «сионскую горницу», где уже было густо от радельщиков, и возгласил: «Братушки, помните о Страшном суде. Грядет! Грядет! Видел толпы спасающихся! Взбираются на горы, лезут и лезут, покинув и домы, и скарб нажитой. Боятся, ха-ха! Боятся! Братушки, помните! Архангел Михаил тогда лишь свергнул сатану с небеси, когда Бог поставил его в чернецы и возложил схиму... Есть ли средь вас, кто без чина ангельского? Поспешайте! Есть в человецах такая боль греха, которую нельзя вылечить ничем, кроме вырезания иль выжигания... Самое преступление Адама в плотском грехе. Изгнавши из рая, Господь повелел ему землю пахати и с женою не спати. Помните, братушки, заповедь Христову и креститеся огненной царской печатью, пока государь не въехал из земли сибирской в Москву на белом коне. Поздно будет, позд-но!»
Тут кто-то возликовал, кто-то в плач ударился, иные смутились и, побледнев лицом, заозирались. Миронушко задохся, двое молодых агнцев подбежали, подхватили под руки, подвели к престолу, покрытому бухарскими коврами. Миронушко сел у подножья, понурился и закрыл лицо руками, озирая залу сквозь расслабленные пальцы...
Последней явилась Ефимьюшка Капустина. Ее сопровождала новоявленная пророчица: говорили, что она из баронесс, бывшая фрейлина матушки Александры Федоровны. «Опусти глаза, бесстыдник! – остерегла Ефимьюшка строго, холодно, чем сразу вернула Клавде чувство зоркое, настороженное. – Дай дорогу-то, нехристь!» Клавдя торопливо отступил, пряча глаза, искоса озирая Ефимьюшку и ее спутницу. Он сразу узнал в ней сестру свою Тайку, но от неожиданности встретить в престольной, в корабле Громова, опешил. Кажется, уж насколь велика Россия, затеряться в ней куда легче, чем просяному семени в зароде сена: сколько всякого народу скитается по ее извилистым немереным дорогам, а вот на тебе, столкнулись в самом центре земли, на случайном отвилке пути, в скрытне, куда ходу чужому человеку нет вовсе. Узнал сразу, но ведь не позвал, не вскричал, отчего-то отступил в темень. Таисья была в ямщицком запашном армяке без ворота, смиренная голова низко повязана черным платом. Лицо исхудалое, обветренное, и синие обочья еще больше подчеркивали белизну широко распахнутых глаз и тупую замкнутость взгляда. Таисья настолько ушла в себя, что навряд ли видела чего сейчас. Она тяготилась скрытиями, средь «белых голубей» ей было душно, не хватало воздуха и позывало в новую дорогу. Она и так-то засиделась в Москве, престольная оглушила ее неизведанной тайной жизнью. Из дома в дом, из скрытни в скрытню, на постоянное посмотрение, на извод души, на потребу: и всюду ждут чего-то необычайного – предсказания, угрозы, успокоения, милости. И голова словно обручами стиснута: разнять бы их, освободиться от постоянного жара, порою такого нестерпимого, будто глаза разбухли и сейчас выльются вон. Устала, наверное? Сломилась, потухла и, как никогда, была далеко от Бога. Не с чертом ли повязалась? Все темное видится, мрак, вихри, огненные сполохи да молоньи.
И сейчас, попав в корабль Громова на радения, Таисья жила днем грядущим, обещавшим быть ясным, последним солнечным днем, когда она намеревалась уйти. Встала, отряхнулась и пошла, верно? Нищему собраться – только подпоясаться. Все, для чего сходились богомольцы, виделось ей бесовским, лишенным покоя, сосредоточия, и мало отличалось от той демонической рати, какая постоянно сопровождала скиталицу. Но Таисья, не выдавая истинных чувств и растерянности, покорно шла за Капустиной, сложив руки на впалом животе, и в такт шагам смутно прозвякивали железа, обвивавшие груди. Цепи под власяницей и армяком не видны были, но звон оставался за странницей совсем неожиданный, и Клавдя удивился, не веря ему, долго крутил головою, соображал. Худа сестреница, думал, провожая взглядом сутуловатую спину, больно худа. В чем душа только. И пожалел с той редкой пронзительной печалью, когда в последний раз видишь на миру родного человечка. Откуда пришло на ум, что больше не встретит Таисью? Хотелось заплакать, окликнуть, порасспросить, небось не мимо дому прошла, завернула. Но не заплакал и не позвал, лишь присбрал назад узкие плечи да приобрал вкруг живота длинную радельную рубаху.
Капустина вела гостью уверенно, она была богородицей, няней, животной книгой, она часто видела Бога и беседовала с ним. Она была уверена в будущем своем блаженстве, она телесными самоистязаниями подготовила будущую свою радость и знала, что когда государь Селиванов въедет в Москву на белом коне, то она, богородица Ефимьюшка, будет около его стремени. Они вошли в огромную залу, и Таисья, впервые попавшая сюда, остолбенела. Прямь двери высоко, под потолком, висели три поясных портрета: в центре Кондратия Селиванова, налево Громова, основателя этого корабля, направо Александра Шилова, страдальца. По одной стене иконы сплошь, в богатых золотых ризах. Многие десятки свеч и лампад создавали причудливое зыбкое освещение, и хотя не было ни одного окна, но, видимо, дыханием сотен людей создавались воздушные токи, колеблющие восковое пламя. Под портретом Селиванова на высоком возвышении о трех ступенях, покрытом дорогими восточными коврами, стояло большое кресло, обитое красным бархатом с золотыми позументами и кистями, пока пустующее. По углам престола, на две ступени ниже, были кресла поменее, поскромнее, куда садились пророк и богородица. Вдоль стен стояли столы, покрытые расшитыми скатертями, и турецкие диваны, крытые шелковым штофом. По одну сторону мужчины все в белом, в подштанниках и длинных, по колена рубахах с длинными же рукавами; женщины в лучших своих одеждах, подпоясаны голубыми лентами. Богомольщики оживились, кто пил чай – те чашки отставили прочь и с любопытством глазели на «богородицу»; кто же пел страды, павши ниц перед престолом, те замолчали и скоро вскочили. Апостол Миронушко поднялся, завидев Капустину, возгласил: «Царство ты, царство, Духовное царство!» Два агнца подхватили его, подвели к Капустиной, они облобызались. Все закрестились, взмахивая руками, походили на птиц. Вострубили, пробуя голос: «Ой дух, дух!» Ефимьюшка запела высоким приятным голосом, слегка подвывая: «Ой скоро-скоро прилетит наш золотой сокол. У него крылышки-то с бриллиантами, с алмазными каменьями драгоценными...»