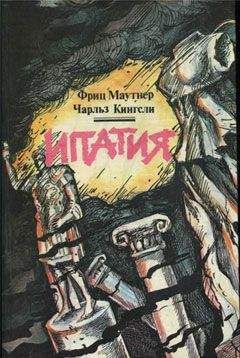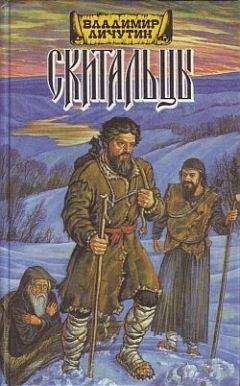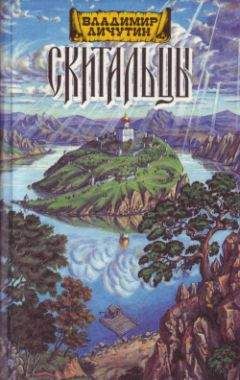Владимир Личутин - Скитальцы
– Я, сестрица, на тебя напраслины не возведу. Но вижу, тесно тебе у нас, ведь слово твое вещее...
– Нет, не худо мне, не худо! Тут я, матушка, как пред вратами рая и от нечистого со всех сторон ограждена.
– Нет, вижу, что тесно тебе, – возразила игуменья неприступным голосом. – Ежели колокол о сто пуд нынче же здесе-ка вздернуть на елине да раскачать? Какой звон по всей тундре пойдет, а кого и чего за-ради? Голос-то услышан должон быть.
– Не гони. – Пала Таисья на колени.
– Подымись, дочь моя. Ты выше меня взнялась, ты затмила меня, и через то разруха придет на монастырь.
– Но где же моя-то вина, матушка? Я-то в чем провинилась?
– Пока нет вины, но может статься. Меньше всего в славе нуждаемся мы: мы бежим от известности, как от мора и язвы. Не погуби, доча. Поди на Россию, там примут. Пока дороги стоят, поди, родимая. Дай поцелую стопу твою. Поди, поди! Россия подымет твою славу. Там столько страждущих, они жаждут утешения.
По последнему насту покинула Таисья Семженские кельи и заглубилась в Русь. Она шла неспешно, и слава о новой пророчице обгоняла ее.
На праздник Покрова? одна тысяча восемьсот сорок восьмого года скиталица Таисья оказалась в Москве на Сретенке, в приходе Николы на Драчах, в доме мещанки Капустиной.
Глава восьмая
Со свойственной ему нахальной простотой Клавдя настолько быстро расположил к себе всех тайных жильцов дома Громова, будто век живал тут. Обличьем он скоро закоренел и уже головы не разгибал, и редко кто мог заглянуть в его разные глаза; руки, сложивши, носил на животе чуть повыше гульфика; серые волосы на темени выпали странным образом, вроде тонзуры, будто ровно выстригли плешину, и, чтобы скрыть ее, носил Клавдя войлочный колпачок. У него веком не росли волосы на бороде и скулы были по-младенчески пустынны, и каждый, кто впервые посещал замкнутую таинственную усадьбу, то полагал Клавдю за отрока-скопца, давая ему лет семнадцать. И столько угодливости, столько неискренней изворотливости и лакейства было во всей его узкой, суетливой, податливой фигуре, когда встречал Клавдя гостя или возле калитки, иль в передней с массивной вешалкой из лосиных рогов и высоким, до потолка венецианским зеркалом в лепной бронзе, что каждому хотелось выказать над воспитанником Громова свою волю и даже побить, хотя никто не решился не то что побить, но даже и обругать его. Может, побаивались хозяина иль, отражаясь в высоком зеркале и видя тощее тельце братца, обтянутое немецким кафтаном с длинными разрезными фалдами, вдруг жалели его. Хотя пред тем-то, идя к дому, обещались больно побить Клавдю и поучить, ибо еще в прошлый приход недосчитались наличного капиталу, внезапно пропавшего из кошелька... Да, замечали за Клавдей больно худое, полагали даже наверняка, что нечист он на руку, но уличить не могли, как ни наблюдал сам Громов; а не пойман – не вор.
– Братцев-то не трогай, – остерег Громов своего «сына», когда впервые пожаловались на него. – По-нашему-то как: брат за брата вы молитесь, друг пред другом вы смиритесь...
– Поклеп, батюшка! – обиделся Клавдя, нижняя губа вздрогнула.
Он поднял мокрые глаза и, шмурыгая вислым носом, пытался улыбнуться. И сколько в лице этом отпечаталось страдания, столь несчастным было оно, что Громов смягчился и невольно пожалел воспитанника; дрогнувшим голосом остановил:
– Ну полно, полно... Порки хотел задать, да погожу.
– Лучше побейте, только не держите на меня душу, – вскричал Клавдя, не отрывая от Громова лучистых глаз, полных слезы. – Я так жить не смогу, коли про меня дурное будете думать. Я ведь и живу-то у вас единственно из любви к вам. Я без таты, без мамыньки жил, один, как перст, а вы мне за та-ту-у, вы мне за ма-му-у.
Протяжно, в голос завыл Клавдя, и, не сдержавшись, боясь, что сердце сейчас лопнет от горя, он закусил кулак зубами и вдруг так разрыдался, так расходилось его тщедушное тельце, так перекосилось все и без того-то неурядливое обличье, что Громов невольно поймал себя на мысли, что, знать, не обошлось без наговора. Не завелся ли в корабле смутьян-наводчик иль завистник какой? Надо бы поручить Клавде приглядеть за братией: обильна стала паства, и трудно ее пасти. Он подозвал Клавдю к себе, сам не трогаясь, однако, со стула, и, зажавши парня меж колен, погладил по голове. Войлочный колпак скатился с темени, обнажились хрящеватые уши и круглая лысина. Громов пробежался мягкими пальцами по голове и поразился мощному, просторному черепу с выпирающими затылочными шишками и широкими сводами, отчего, казалось, бо?льшая часть головы тяжело провисает за шеей. Волосы были ненатуральные, скользкие, как ветхая обсохшая весенняя трава, и под ними кожа прощупывалась тоже иная, нечеловечья, отчего Громов нечаянно вздрогнул.
– Ну полно тебе, разлился. Как ребенок, ей-ей. Дом-то затопишь, остановись давай!
– Я ужасно обидчивый. Я напраслины не терплю. У меня душа как воск.
– Поди займись делом.
В коридоре Клавдя осушил слезы, прощально передернул носом и тонко засмеялся, довольный собой. Через людскую, задними воротами скользнул в сад, от стражи не таился, сунул рослому отставному солдату три копейки, дескать, пойдешь в трактир и возьмешь себе пару чаю, своим ключом открыл калитку и исчез в городе. Он растворился в нем, как песчинка в пустыне, и пыльный ветер подхватил его и затерял на Хитровом рынке.
На обжорке, где Клавдя трескал печенку и ливерную колбасу в жаровнях, он познакомился с карманщиками, тырщиками, поездошниками, что таскают вещи из пролеток, он изучил их хитрости и радовался простоте и прибыльности ремесла; в подземельях страшного «ада» сошелся с болдохами и зелеными бродягами; он скоро изучил, шатаясь по порученьям Громова, аферистов и комиссионеров, подводчиков краж и агентов игорных домов. Ему словно бы нужны были все азартные «прелести» той жизни, которая прежде была неведома ему; но именно она с необычайной легкостью приносила капиталы и с той же легкостью поглощала их. И, поняв тайну московского дна, Клавдя решился соединить товар «скопцов, которому цены нет», со случайным, переменчивым товаром бродячего народа.
У евреев, попадавших в престольную под видом негоциантов, он научился денежным делам, кои те вели с такою хитрой изворотливостью, с такой слезливой глубокой печалью в глазах, будто снимали с себя последнюю рубаху и собирались самораспяться на кресте во имя справедливости; от цыган Клавдя воспринял радостное, наглое плутовство, когда мошеннику хоть плюй в глаза – все Божья роса; от китайцев взял уроки замысловатой науки наказывать обидчика. Теперь Клавдя всегда носил в широком рукаве однорядки сапожный нож, подвешенный на резинку особенным образом, и немного мышьяка в одногорлой крохотной нюхательнице с притертой стеклянной пробкой. Однажды он проверил китайскую науку в деле. В трактире Полякова пристал подвыпивший детина, он долго не сводил с Клавди мутного взгляда и потом коротко выплеснул в лицо: «Вы-ро-док!» – и торжествующе рассмеялся.
– Аха, – тускло и кротко согласился Клавдя. – Меня мама родила, а тебя – грязная свинья.
Обидчик вскочил, размахивая кулаками, и был он столь огромен, невыносимо велик, что сердце у Клавди, наверное, упало от страха, и парень сам повалился на пол в опилки, как сробевший кобелишко с поджатым хвостом, и принялся сучить ногами и елозить на спине. Рыжий детина недоуменно скакал кругом, намереваясь придавить Клавдю сапожищем, как гадину, но странным образом никак не мог угодить в лежащего и вот вроде бы запутался в хитро сплетенных уловках Клавди и неожиданно для себя и зевак сам оказался на полу на спине, уже беспамятно стонущий, с жутким оскалом и с глубоким траурным отпечатком шнура на шее. Когда хватились Клавди, того уж и след простыл...
На Сретенке в приходе Николая на Драчах жила кормщица скопческого корабля Ефимьюшка Капустина. Она давала денег на разживу, сначала понемногу, пока заманивала и утешала, а когда добивалась соглашения принять скопчество, то и благодетельствовала на довольно приличные суммы, не забывая, однако, вытребовать заемный вексель. Имела старуха большой угрюмый дом, полностью сокрытый непроницаемым забором; глухая калитка денно и нощно закрыта на цепь. Купленные за серебряные талеры павловского чекана девицы после оскопления и по их желанию проживали в этой скрытне, где и образовался впоследствии небольшой женский монастырь. Ефимьюшка была сестрою алатырского фабриканта-позументщика. Громов возносил Ефимьюшку до небес, приписывал ей знатное происхождение: была она будто бы дочерью князя Шереметева, но удалилась от двора только ради спасения души своей. Была она высокая, с прямой неподвижной спиною и совершенно плоскою грудью, и даже теперь, в старости, сохранялись на лице следы былой прелести: тонкое, без единой морщины обличье и неотступный взгляд печальных выцветших глаз приводили в трепет кого угодно. Она имела обыкновение не мигая долго разглядывать вновь пришедшего и изымать его душу на посмотрение. Клавдя часто по поручениям Громова навещал этот дом и каждый раз вступал за калитку с чувством опасности и тревоги. Даже в ветреные дни этот пониклый, разросшийся старый сад беззвучно молчал, и ни одна рябая птичка не осмеливалась нарушить тишины, будто бы и сама крохотная рябая тварь тоже могла стать невольно «лепостью» и смутить душу монастырской затворницы.