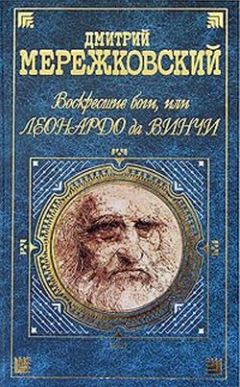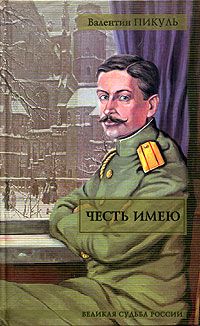Дмитрий Мережковский - Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Когда желаемое соединяется с желающим, происходит утоление желания и радость: любящий, когда соединился с любимою, – покоится; тяжесть, тогда упала, – покоится.
Часть всегда желает соединиться с целым, дабы избегнуть несовершенства: душа всегда желает быть в теле, потому что, без органов тела, не может ни действовать, ни чувствовать. Но с разрушением тела душа не разрушается; она действует в теле, подобно ветру в трубах органа: ежели одна из труб испорчена, ветер не производит верного звука.
Как день, хорошо употребленный, дает радостный сон, так жизнь, хорошо прожитая, дает радостную смерть. Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь. Всякое зло оставляет горечь в памяти, кроме величайшего – смерти, которая разрушает память вместе с жизнью.
Когда я думал, что учусь жить, я только учился умирать.
Внешняя необходимость природы соответствует внутренней необходимости разума: все разумно, все хорошо, потому что все необходимо.
«Да будет воля Твоя, Отче наш, и на земле, как на небе».
Так разумом оправдывал он в смерти божественную необходимость – волю Первого Двигателя. А между тем, в глубине сердца что-то возмущалось, не могло и не хотело покориться разуму.
Однажды приснилось ему, что он очнулся в гробу, под землею, заживо погребенный, и с отчаянным усилием, задыхаясь, уперся руками в крышку гроба. – На следующее утро напомнил он Франческо свое желание, чтобы не хоронили его, пока не явятся первые признаки тления.
В зимние ночи, под стоны вьюги, глядя на подернутые пеплом угли очага, он вспоминал свои детские годы в селении Винчи – бесконечно далекий и радостный, точно призывный, крик журавлей: «полетим! полетим!», смолистый горный запах вереска, вид на Флоренцию в солнечной долине, прозрачно-лиловую, как аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двумя золотистыми ветками поросли, покрывающей склоны Альбанской горы. И тогда чувствовал, что все еще любит жизнь, все еще, полумертвый, цепляется за нее и боится смерти, как черной ямы, куда, не сегодня, так завтра, провалится с криком последнего ужаса. И такая тоска сжимала сердце, что хотелось плакать, как плачут маленькие дети. Все утешения разума, все слова о божественной необходимости, о воле Первого Двигателя казались лживыми, разлетались, как дым, перед этим бессмысленным ужасом. Темную вечность, тайны неземного мира он отдал бы за один луч солнца, за одно дуновение весеннего ветра, полного благоуханием распускающихся листьев, за одну ветку с золотисто-желтыми цветами альбанской поросли.
Ночью, когда они оставались одни, а спать не хотелось – в последнее время страдал Леонардо бессонницей, – читал ему Франческо Евангелие.
Никогда не казалась ему эта книга такою новою, необычайною, непонятою людьми. Некоторые слова, по мере того, как он вдумывался в них, углублялись, как бездны. Одно из таких слов было в четвертой главе Евангелия от Луки. Когда Господь победил два первые искушения – хлебом и властью, – дьявол искушает его крыльями:
«И повел его в Иерусалим и поставил Его на крыле храма и сказал ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесу Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога Твоего».
Слово это казалось теперь Леонардо ответом на вопрос всей жизни его: будут ли крылья человеческие?
«И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени».
«До времени? Что это значит? – думал Леонардо. – Когда же дьявол приступит к Нему снова?»
Слова, которые могли бы казаться ему полными величайшего соблазна, наиболее противными опыту и познанию законов естественной необходимости, не смущали его:
«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди туда, – она перейдет». Ему всегда казалось, что последнее, может быть, недоступное людям, знание и последняя, столь же недоступная, вера привели бы разными путями к одному – к слиянию внутренней и внешней необходимости, воли человека и воли Бога. Кто с истинною верою скажет горе: подымись и ввергнись в море, – тот уже знает, что не может не быть по слову его; для того уже сверхъестественное – естественно. Но уязвляющее жало этих слов не заключалось ли в том, что веру, хотя бы с горчичное зерно, иметь труднее, чем сказать горе: подымись и ввергнись в море?
Тщетно старался он постигнуть и другое, еще более загадочное слово Учителя:
«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение».
Ежели есть у Бога тайна, которую Он открывает младенцам, ежели совершенная простота не есть совершенная мудрость, – почему же сказано в той же книге: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Между этими двумя словами опять открывалась бездна.
И еще сказано: «посмотрите на полевые лилии, – как они растут? И так, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что нам пить? или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это все приложится вам».
Леонардо вспоминал свои открытия, изобретения, машины, которые должны были дать человеку власть над природою, и думал: «Неужели все это только забота о теле, – что есть? что пить? во что одеться? – только служение Маммону? Или в труде человеческом нет ничего, кроме пользы? И если Любовь есть Мария, которая, избрав благую часть, сидит у ног Учителя и внемлет словам Его, то неужели Мудрость – только Марфа, которая печется о многом, когда нужно одно?»
Он, впрочем, знал, по собственному опыту, что в глубочайшей мудрости, так же как на скользком краю пропасти, находятся самые страшные, неодолимые соблазны. Он вспоминал о малых сих, собственных учениках, может быть, из-за него погибших, им соблазненных – Чезаре, Астро, Джованни, – когда слышал эти слова:
«Кто соблазнит одного из малых сих. тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов; ибо надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». И, однако, в той же книге не было ли сказано: «Блажен, кто не соблазнится о Мне. – Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение».
Всего же более ужасал его рассказ Матфея и Марка о смерти Иисуса:
«В шестом часу наступила тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани! Боже мой! Боже мой! для чего Ты меня оставил? И опять возопив, испустил дух».
«Для чего Ты оставил Меня? – думал Леонардо; – одним ли врагам Его казался этот предсмертный крик Сына к Отцу, Того, Кто сказал: „Я и Отец одно“, – криком последнего отчаяния? И если все учение Его положить на одну чашу весов, а на другую – эти четыре слова, то какая перевесит?»
И между тем, как он думал об этом, ему казалось, что уже видит он лицом к лицу ту страшную черную яму, куда, не сегодня, так завтра, споткнувшись, провалится с криком последнего ужаса: Боже мой. Боже мой, для чего Ты меня оставил?
Иногда поутру, вставая, глядел он сквозь замерзшие стекла на снежные сугробы, на серые небо, на деревья, покрытые инеем – и ему казалось, что зима никогда не кончится.
Но в начале февраля повеяло теплом; на солнечной стороне домов, с висячих льдинок закапали звонкие светлые капли; воробьи зачирикали; стволы деревьев окружились темными кругами тающего снега; почки разбухли, и сквозь редеющий пар облаков засквозило бледно-голубое небо.
Утром, когда солнце проникало в мастерскую косыми лучами, Франческо ставил в них кресло учителя, и целыми часами старик сидел неподвижно, греясь, опустив голову, положив на колени исхудалые руки. И в руках этих, и в лице с полузакрытыми веками было выражение бесконечной усталости.
Ласточка, зимовавшая в мастерской, прирученная Леонардо, теперь летала, кружилась по комнате, садилась к нему на плечо или на руку, позволяла брать себя и целовать в головку; потом, опять вспорхнув, реяла, с нетерпеливыми криками, как будто чуя весну. Внимательным взором следил он за каждым поворотом ее маленького тела, за каждым движением крыльев – и мысль о человеческих крыльях снова пробуждалась в нем.
Однажды, отперев большой сундук, стоявший в углу мастерской, начал рыться в кипах бумаг, тетрадей и бесчисленных отдельных листков, с чертежами машин, с отрывочными заметками из двухсот сочиненных им книг о Природе.
Всю жизнь собирался он привести в порядок этот хаос, связать общею мыслью отрывки, соединить их в стройное целое, в одну великую Книгу о Мире, но все откладывал. Он знал, что здесь были открытия, которые на несколько веков сократили бы труд познания, изменили бы судьбы человечества и повели бы его новыми путями. И, вместе с тем, знал, что этого не будет: теперь уже поздно, все погибнет так же бесплодно, так же бессмысленно, как Тайная Вечеря, памятник Сфорцы, Битва при Ангиари, потому что и в науке он только желал бескрылым желанием, только начинал и не оканчивал, ничего не сделал и не сделает, как будто насмешливый рок наказывал его за безмерность желаний ничтожеством действия. Предвидел, что люди будут искать того, что он уже нашел, открывать то, что он уже открыл, – пойдут его путем, по следам его, но мимо него, забыв о нем, как будто его вовсе не было.