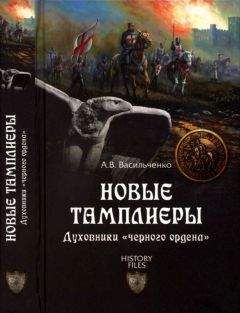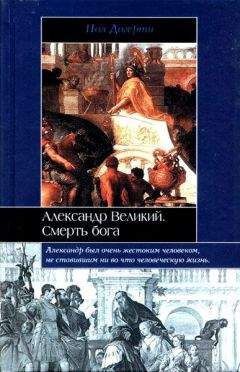Марк Алданов - Истоки
— Теперь врачи говорят о каких-то микробах. Так вот, один из моих товарищей уверяет, что в моем мозгу будет найден микроб стратегии и тактики, — весело сказал он. Она смеялась и думала, что если бы обед продолжался не два часа, то этот сосед был бы очарователен.
После десерта мужчины оставались в столовой, им подавали les vins des Iles[192], а дамы переходили в гостиные. Это было наиболее скучное время дня. «Все-таки герцогини глупее герцогов», — думала Софья Яковлевна. Затем до ужина, продолжавшегося всего часа полтора, в замке играли в карты, устраивались какие-то шарады, кто-то играл на рояле. Софья Яковлевна не могла не поддаться общему настроению, как не могла не жить по ударам гонга, не участвовать в прогулках и экскурсиях. Она думала, что понятие праздности так же условно, как понятие богатства. По сравнению с принцем Юрий Павлович был очень бедным человеком. В Петербурге она жила праздно, но такая степень праздности казалась ей чрезмерной.
Сам принц не утомлял своих гостей разговорами. Быть может, догадывался, что они, особенно англичане, считают его человеком низшей расы и полудикарем (сам он тоже считал их людьми низшей расы и дикарями). Ему нравилось, что они едят и пьют у него так, как едва ли ели и пили у себя дома. Он отлично знал, что его европейский секретарь наживает на хозяйстве в замке большое состояние, и даже, вероятно, очень удивился бы, если б секретарь оказался честным человеком. Принц благосклонно ухаживал за дамами и делал вид, что влюблен в них даже в тех случаях, когда это было весьма неправдоподобно. Эту манеру он почему-то раз навсегда усвоил себе в Европе. Как хорошо воспитанные люди, гости смеялись над ним редко, благодушно и в меру. Они были так же им довольны, как он был доволен ими. Жить у него было в самом деле чрезвычайно приятно.
В замке получались «Фигаро», «Стандарт», «Таймс» и другие приличные газеты. Они были нарасхват, так как едой и развлечениями все же нельзя было заполнить сутки, и после завтрака почти все поднимались к себе для отдыха. Софья Яковлевна не ждала ничего такого, что могло бы ее интересовать; знала, что, если случится что-либо очень важное, то об этом ей сообщат другие гости; а на следующий день полковник изложит своими словами то, что об этом будет сказано в «Норддейтче Алльгемайне Цайтунг». Поэтому она в замке больше не просматривала и заголовков. Время, свободное от обедов, развлечений и болтовни, она проводила в библиотеке. В эту комнату, со стенами, обитыми выцветшим зеленым шелком, с тяжелыми дубовыми шкапами, со старыми портретами в потемневших золотых рамах, редко захаживали другие гости. Софье Яковлевне попались воспоминания какой-то маркизы, жившей на рубеже двух столетий. Маркиза была милая, неглупая, много видевшая женщина, и в ее рассказах Софья Яковлевна подбирала доводы против революционеров. «Интересно, что он на это скажет?..» Впрочем, она не очень верила в революционность Мамонтова. «Все-таки мосье очень любит себя и свои переживанья. Какие же переживанья могли бы быть в тюрьме, начиная со второй недели?» После воцарения Наполеона муж маркизы служил верой и правдой ему; после возвращения Бурбонов служил верой и правдой им. Маркиза находила это совершенно естественным; во всех ее испытаниях ее поддерживала мысль, что ею руководит Божья воля. «Она обожала Людовика, потому что он le descendant de Saint Louis[193], обожала Наполеона, ведь он le grand Empereur[194], и в день его отречения вспомнила, что она — dame de l’ancienne Cour[195]. «Уж очень у нее это грациозно выходит… Он, разумеется, сказал бы, что и для этих маркизов, и для нас дело не в принципах, а в защите наших интересов и привилегий… Если в этом и есть маленькая доля правды, то зачем же он все так обнажает, так огрубляет?»
Утром 6-го февраля в библиотеку вошел Шлиффен, с только что полученной газетой в руке. Лицо у него было встревоженное и расстроенное в первый раз за время их знакомства. Он молча протянул Софье Яковлевне газету. В ней было сообщение о взрыве в Зимнем дворце.
Позднее Софья Яковлевна думала, что с ней случился бы нервный припадок, если бы она узнала об этом событии в пору своего швейцарского одиночества. Здесь с ней этого не случилось, потому что в замке принца нервные припадки были невозможны (она не раз замечала, что даже у самых искренних людей поступки, именуемые импульсивными, не происходят там, где им происходить не годится). Тем не менее, Софья Яковлевна была потрясена. Граф Шлиффен говорил что-то в очень энергичном тоне, — на этот раз высказывался до получения «Норддейтче Алльгемайне Цайтунг». Он предлагал образование международного союза для борьбы с этими бандитами. «Ничего более мерзкого быть не может! Я так ему и скажу! Всему есть мера!» — говорила себе она, точно с угрозой Мамонтову.
Днем за чаем все говорили о петербургском взрыве. К Софье Яковлевне обращались за разъяснениями, в тоне почтительного сочувствия. Один из гостей неожиданно сказал, что, кажется, все в мире вообще идет к черту. Другие оспаривали это: не надо ничего обобщать. Но, по-видимому, и оспаривавшие были встревожены: взрыв во дворце русских царей!
Дней через пять Софья Яковлевна получила письмо от брата. Михаил Яковлевич с глубоким возмущением писал о взрыве. «Слава Богу, что хоть Миша поумнел», — подумала она. Мамонтов давно говорил ей, что ее брат из консервативных либералов понемногу становится либеральным консерватором. «У него и тон этакий, барский, либерально-консервативный. А кроме того, он в разговорах с вами все-таки чуть-чуть консервативнее, чем, например, в доме своего тестя».
«Вот они, результаты рахметовщины, базаровщины, писаревщины, — писал Черняков (Софья Яковлевна не очень понимала, что означают все эти слова). — Увидишь, они доиграются до диктатуры, о которой уже здесь говорят. Ты не можешь себе представить, какие слухи ходят сейчас по милому Петербургу! Бог мне судья, но я считаю этих людей опаснейшими злодеями! Кто, как я, видел своими глазами вынос мертвых тел из дворца, тому пусть уж не заговаривают зубов хорошими словами о народном счастье! И не я один так думаю. Ты знаешь, я в добрых отношениях с Достоевским. С этим человеком можно соглашаться и не соглашаться, но нельзя отрицать, что он и помимо своего художественного таланта человек во многих отношениях замечательный. Я встретил его, на нем не было лица! Мне показалось, что сочтены не дни его, а часы. Он сказал только: „Уверовали в злодейство — и поклонились ему…“ Но надо было слышать, как это было сказано!»
В дальнейшем Михаил Яковлевич писал ближе к обычному тону их переписки. Расспрашивал о здоровье, советовал подольше не возвращаться в Петербург, «теперь вдобавок особенно мало заманчивый», сообщал, что Коля по-прежнему учится и ведет себя отлично, говорил о Петре Алексеевиче, о других знакомых. В их числе, заботливо вскользь, говорил и о Мамонтове. «Он получил заказ на какую-то картину от какого-то принца, и едет за границу, еще сам пока не знает куда именно. Итак, он опять художник! Нет, все-таки он несерьезный человек». После «нет» что-то было старательно зачеркнуто. Софья Яковлевна долго пыталась разобрать зачеркнутые слова. Ей показалось, что ее брат зачеркнул «извини меня» и нарочно добавил какую-то черточку, точно от «р», внизу и маленький кружок, точно от «д», наверху. Тщательность этого замазыванья неприятно поразила ее. В заключение Михаил Яковлевич сообщал, что был на Смоленском кладбище и что могила Юрия Павловича в полном порядке. Заканчивалось письмо «самым сердечным приветом от Лизы». Софья Яковлевна вздохнула.
Мамонтов приехал поздно днем, незадолго до обеда. Софья Яковлевна случайно встретилась с ним на лестнице. Он поднимался в сопровождении лакея. Увидев ее, он вспыхнул и, шагая через две ступени, взбежал на площадку. «Что это в нем изменилось?» — подумала она, здороваясь с ним с ласковой улыбкой. «Кажется, у меня сегодня особенно скверный вид». Но он смотрел на нее восторженно.
— …Так вы не сожалеете, что приехали?
— На это я отвечать не буду!
— Я тоже очень рада вашему приезду. Сейчас вам надо торопиться: через полчаса обед. Вы, кажется, изменили прическу. Вы надолго? Сколько времени берет пейзаж?
— Он возьмет ровно столько времени, сколько здесь будете оставаться вы, — ответил Мамонтов. Софья Яковлевна сделала вид, что не расслышала.
Когда после гонга он проходил между двумя рядами пудреных лакеев, злобно на них поглядывая, Софья Яковлевна смотрела на него с легкой тревогой, точно боялась, что он что-либо сделает не так. «Нет, одет он прекрасно. Но, конечно, смущен и старается это скрыть…» Посадили его очень далеко от нее, в самом конце стола. Обед был нескончаемо длинен.
Часов в десять они остались одни в библиотеке. Он долго хохотал, — по ее мнению, слишком долго.
— …И что удивительнее всего, ни одной красивой женщины! Бриллиантов на миллионы, а лица — совершенный ужас! Я знаю, вы не любите вульгарных выражений, но…