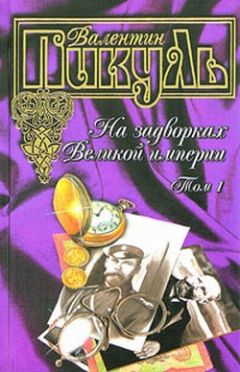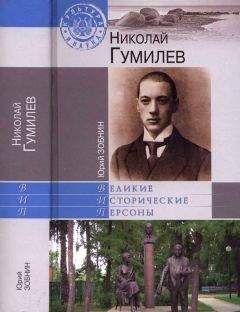Валентин Пикуль - На задворках Великой империи. Книга вторая: Белая ворона
Мой отец, сам не дурак выпить, как положено «щирому украинцу», отводил меня от окна: рано смотреть такие вещи – лучше читай…
Очевидно, те же радости, которые испытывал я, как мальчик-ленинградец, испытывал, наверное, и мой герой – как старый петербуржец. Город хорошел: залили асфальтом Пулковский меридиан вдоль Международного, строился мрачный дом Союзпушнины и Фрунзенский универмаг, пробежал с флажком первый троллейбус.
Да, Мышецкому эти перемены в облике города были приятны. Как никак – хорошо! Особенно внимательно следил он по газетам за Уренском: там теперь работает – на месте сгоревших салганов – громадный мясокомбинат, открыты два техникума, областной музей, на месте Обираловки разбили парк культуры (наконец-то!), а демонстрации проходят по Влахопуловской улице, которая теперь имеет честь называться Сталинским проспектом.
Все закономерно и все можно объяснить в этом мире. Но вот пришла к нему Лиза, Лизанька – уже старая – и долго плакала: Асафий Николаевич в эту ночь арестован, как «враг народа». Что он мог сказать женщине в утешение?.. А в субботу навестил Сану, и Сана долго вытирала руки о чистенький передник, прятала глаза:
– Сергей Яковлевич, – сказала, – Володя вот у меня… да и вы, все-таки, что ни говори, а… Оно же и нас поймите!
Сергей Яковлевич поцеловал на прощание руку Сане:
– Не надо, Сусанна Петровна, я все понимаю. Может, вы и правы: мне, действительно, не стоит бывать у вас…
Трещал сильный мороз, сковывая дыхание. Уже темнело, когда артель закончила пилить и колоть во дворе на Серпуховской. Зашли в пивную обогреться. Выпили, и ударила водка в голову. Сергей Яковлевич заговорил: о Малюте Скуратове, об Иване Грозном – безо всякого уважения. Городовой и алкоголик прослушали пылкую речь бывшего тайного советника о Бироне и Бенкендорфе.
– Где они? – спросил Мышецкий, запивая спич жигулевским пивом. – Россия-то стоит… Так и с этими – Ежовыми да Берия!
Копченкин (бляха № 412) встал – бестрепетный:
– Вот возьму я, Яковлевич, да и капну на тебя… Не боишься?
Но дядя Вася (славный алкоголик) кулак ему к носу приставил:
– Капни, шкура старорежимная! Вот только капни… я тебе тоже капну! Тебе твою бляху напомнят… Коли, как колешь, и молчок!
Да-а, нехорошие времена. На площади перед Исаакием колыхался над зданием германского консульства флаг со свастикой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додо допилась до белой горячки, и он уложил ее в больницу имени Капранова (в конце Международного). Это случилось в разгар мехового аукциона. Ехал обратно на трамвае и видел, проезжая мимо Союзпушнины, как теснятся возле здания иностранные машины: шел международный торг мехами. А дома Коля сказал с подозрением:
– Вы меня не впутывайте! Тут к вам гость был, иностранец какой-то. Однако, по-нашему говорит – хоть куда!
– И ничего не оставил?
– Нет, сказал, что сегодня уезжает. В следующем году снова будет – так зайдет… Только вы меня не впутывайте!
И забылось это, только в сердце отзывало тревогой: а не сын ли это? Ведь ему тридцать – вполне серьезный человек. Он, кажется, в Курляндии! А в мире неспокойно – Гитлер неистовствовал. Целое поколение было воспитано на ненависти к фашизму – на словах Максима Горького, призвавшего бороться и ненавидеть. А тут… Молотов встречает Риббентропа. Многие были сбиты с толку, и Сергей Яковлевич проводил исторические параллели. Примерно так же было и с Наполеоном, которого сначала объявили на Руси антихристом, а потом заключили мир в Тильзите и приказали народу поверить в дружбу. Но русский народ не верил, и наступил 1812 год…
А сейчас – 1939… «Когда?» – спрашивал себя Мышецкий. В воздухе явно ощущался запах гари и крови… «Когда?»
В один из дней навестил Додо в больнице. Чистенькая и просветленная, сидела сестра на койке, через белую рубашку виднелась исчахшая грудь старухи. И те милые родимые пятнышки на ее груди, которые умиляли в молодости, теперь оказались грязными бородавками.
– Сережа, – улыбнулась Додо беззубо, – как хорошо, что ты пришел… Вчера у меня был Петя, а сегодня ты. Вот и праздник!
Сергей Яковлевич разогнул ей пальцы, вложил в ладонь сестры румяное яблоко с веточкой.
– И что сказал тебе Петя? – спросил он больную.
– Он ругал меня, мой Петя. А сам – такой светлый, при цилиндре. И совсем не состарился. И все куда-то звал меня… «Додушка, – говорил, – зачем ты здесь, пойдем… поедем в Лугу, мельницу я продал, а наш дом там…»
– Позволь, Додо, – обомлел Сергей Яковлевич, – ваш дом ведь был не в Луге, а на Сиверской.
Додо стянула платок на голове, словно собираясь в дальнюю дорогу. Улыбнувшись, откусила яблоко.
– Да? Но тебя я тоже видела в Луге…
– С чего бы это?
– Ты копал там землю… Много земли ты копал там!
Ночью ее нашли на лестнице: Додо висела, уже остывшая! Не уследили. Медленно тянулись печальные дроги. Опустив голову, провожал сестру Мышецкий: вот и оборвалась последняя ниточка с прошлым. Было очень холодно, и он не плакал. Из-под снега торчал крест. Это лежал Плеве, из канцелярии которого Сергей Яковлевич и вышел когда-то в чиновный мир. А там, подальше, лежит Воронин – без головы: жертва взрыва на Аптекарском острове…
Додо опустили в промерзлую землю. Сергей Яковлевич помогал могильщикам и думал: «Кто я? Что я? Куда иду? И – зачем?..» Священник загасил ладан в кадиле, перекрестился.
– Батюшка, – попросил его Мышецкий, – скажите мне, одинокому и последнему, что-либо на прощание.
– Читайте книгу Иова, князь: «…и остался один я, чтобы сообщить тебе…» Мир вам, князь!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Через год снова был меховой аукцион, и он, этот гость, пришел опять. В добротной шубе, весь благоухающий, с щеткой усиков, сам противный и гадкий, как сытый поросенок, и бегают глазенки, обшаривая нищенскую обстановку княжеского жилья.
Это был фон-Гувениус – Пауль, тот, который саранчу в Уренске когда-то давил. Не ожидал его Мышецкий и был поначалу ошарашен визитом гостя, о котором не любил думать и в старые времена.
– На меховом аукционе, – сказал фон-Гувениус, – я представляю интересы великой Германии и моего фюрера…
Сергей Яковлевич только что пришел из магазина. Растерянно свалил на стол хлебный батон, кулечек с сахаром, текло на клеенку из-под жирной селедки. Фон-Гувениус оценил на глаз скудость княжеского ужина, и был настолько глуп, что заметил это вслух.
– Я думал, – сказал он, – вы, при ваших блестящих способностях, достигли при большевиках больших чинов?
Сергей Яковлевич ответил ему по-немецки:
– Но я же не представляю Россию в той степени, в какой фюрер поручает вам представлять интересы великой Германии…
Однако фон-Гувениус, лоснясь воротником шубы, продолжал говорить по-русски, и Сергей Яковлевич был удивлен отчасти:
– Вы раньше, Пауль Иванович, едва-едва могли разговаривать по-русски. А теперь, живя в Германии, вдали от России, вы говорите отлично… Откуда у вас это?
– Видите ли, князь, – отвечал ему фон-Гувениус, польщенный, – изучение России и всего русского вменено мне в обязанность перед фюрером. У великой Германии будущего есть свои, особые, интересы в России, и эти две великие страны в недалеком времени будут связаны кровно!
Потом фон-Гувениус заговорил о другом: об Алисе Готлибовне, которая долго страдала за разрыв, пока не вышла замуж.
– Очень почтенный человек, один испанский комиссионер, и теперь она проживает с ним постоянно в Марокко…
– А мой сын? – спросил Мышецкий.
– Ваш сын по-прежнему владеет имением в Баусском уезде Латвии, и правительство Ульманиса оказывает ему полное доверие, как местному патриоту. Бурхард или Афанасий (как вам угодно, князь) окончил военную школу в Потсдаме, и ныне состоит офицером запаса…
– В Латвии? – спросил Мышецкий.
– Как вы могли подумать? Конечно же, в Германии!
– Он же русский, – смутился Сергей Яковлевич. – Мог бы быть и умнее. В его-то годы… Русский! Причем здесь Германия?
И тогда фон-Гувениус сказал ему так:
– Вы, князь, плохо знаете нашего фюрера.
– Я его совсем не знаю… Что он мне?
– А он, ваш великий друг и учитель, всегда с большим уважением отзывается о многострадальном русском народе….
– У него свой народ страдает изрядно! – ответил Мышецкий. – И вы, Пауль Иванович, все-таки плохо изучили русский язык…
Фон-Гувениус понял эту фразу дословно, не вдумываясь в нее:
– Разве у меня нечистый выговор? – напрягся он во внимании.
– Вы сказали: «кровные» интересы Германии, – продолжил Мышецкий. – Боюсь, как бы они не обернулись кровавыми.
– Ну-у, – протянул фон-Гувениус, обидясь, – вы, князь, всегда отличались неуместным германофобством. Однако, вот ваш великий вождь Сталин тяготеет как раз к германскому миру. Новый порядок в России – так, мы его признали, но вы должны будете признать и новый порядок в Европе…