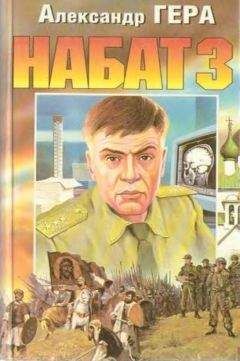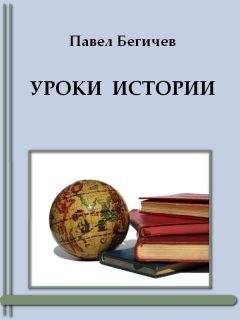Людмила Шаховская - При царе Сервии
Амальтея сердито вырвала платье из костлявой пятерни дряхлого свинопаса и при этом выронила свою «святыню»; пестрая пуговица со звоном покатилась прямо под ноги Ультима; тот не замедлил поднять ее, удивленно спрашивая сестру:
– Как это попало к тебе?
– Оставь!.. Отдай!.. Это пуговица фламинова внука; ее надо возвратить; я завтра же снесу ее старой Стерилле.
– С чего ты взяла?! Это мое.
– Твое?! Откуда такая дорогая вещь?
– Мне Вераний подарил.
– Вераний... а я...
– Стянул, говорит, у царевича... много там, вишь, таких побрякушек, – что гороху у нас.
Амальтея прыгнула козою в дверку своей каморки и оттуда глухо донеслись ее рыданья с постели, на которую она бросилась с размаха и уткнулась лицом в подушку, разочарованная в своей «святыне».
Ультим растерянно поглядел на дверь каморки, перебрасывая пуговицу из одной руки в другую, как виноватый, потом тихо пошел, заглянул с порога в потемки спальни и конфузливо заговорил врастяжку:
– Амальтея!.. А, Амальтея!.. Да что же я такое сделал-то? С чего ты ревешь?
– Сама не знаю, с чего, – ответила девушка, – убирайся!.. Уйди!..
– Амальтея!.. Я, пожалуй, отдам тебе эту пуговицу... на кой прах мне она? – пришить к платью нельзя, – всяк станет спрашивать, откуда она... такая золотая, пестрая.
– Господа называют это «эмаль».
– На, возьми!..
– Не надо!.. Убирайся!..
Амальтея вырвала пуговицу и бросила ее брату в лицо. Настроение духа ее изменилось; ей стало отчего-то безотчетно смешно на самое себя. Она улыбалась, валяясь на постели.
– Моя девка, думается, умом повредилась, – недовольным тоном с кислою миной заметила Тертулла; продолжая возиться у печки с варящеюся похлебкой, – испугалась, что мы ее гостинцы съедим и, назло, взяла да и переломала их, – ни вам, мол, ни себе.
Ультим отошел от двери каморки и усмехнулся, взглянув мельком на изломанные лепешки, а Балвентий продолжал шамкать бессмысленные повторения фраз:
– Повредилась, вот ведь повредилась умом девка-то... беда-то, беда-то какая!.. А все от погоды; вихрь это ей, буря надула... Брел я, брел сюда от свинарни-то, как меня вдруг с размаха хлестнет распреогромной веткой прямо по лицу!.. Думал, глаза выскочили, а ветер-то, ветер все ревет... поскользнулся я, да и шлепнулся, – думал, в трясину попаду. – Ультим, кричу, погоди убегать-то!– А он не слышит... колбасу-то, колбасу-то всю никак не подберу... насилу вылез и догнал его, весь в грязи.
Прихрамывая на не сгибающихся от ревматизма ногах, свинопас подошел к столу, причем яркий свет от лампы заставил его прикрыть рукою гноящиеся, простуженные глаза. Он положил на стол принесенный им сверток в выпачканной грязью холстине, сам похожий на пугало от падения в лужу, сипло переводя дыхание от непомерной усталости после бега за юношей через болотную топь; он закашлялся и потирал мокрые руки.
– Что принес, старый дед? – обратилась к нему Тертулла.
– Что принес, – повторил свинопас, бессмысленно глядя на лампу, – хороший окорок копченый и связку колбас... да... колбас связку вам... сосиски...
– Сосиски давай сюда; я брошу в похлебку.
– А я тебе, дед, задумала невесту посватать, – весело закричала Амальтея, выбежав из своей каморки.
Только что рыдавшая на постели, уткнувшись в подушки, девушка теперь смеялась, не давая себе отчета в такой внезапной перемене настроения.
– Кого? – спросил Ультим, обернувшись к сестре.
– Овдовевшую соседскую экономку Стериллу.
– Ха, ха, ха!.. под пару... ей чуть не 80 лет.
– Да и Балвентию близко к тому.
– Ай да жених!.. дед, что скажешь на это?
– Что скажешь, – повторил свинопас, – вам смеяться-то... смеяться-то можно, молодежь... можно, как хотите; вам что стар, что мал, все едино; в покое не оставите; не оставите в покое, говорю.
Амальтея принялась дразнить его шамкающим, гнусавым говором с повторением слов, указывая на принесенный окорок.
– Жирная свинка... жирная свинка... уж больше, больше хрюкать не станет; скоро, скоро толстый Грецин упрячет ее в свою по-по-кла-кладистую утробу; да-да, весь окорок, весь окорок за одним ужином съест.
Это был когда-то давно подслушанный ею его отзыв про управляющего.
– Девка!.. – вскричал свинопас, начиная сердиться, – неугомонная!.. Берегись!..
– Чего мне беречься-то?
Девушка смеялась.
– Я те палкой!..
– Ну, не дури, дед!.. – вмешался Ультим, опуская своею рукою его поднятую дубинку.
Амальтея схватилась за ее нижний конец, силясь вырвать эту суковатую трость, но старик не давал, стиснув ее загнутый крючком верх. Придвинув свои ноги к его ногам, девушка заставила свинопаса кружиться с нею, покуда он не шлепнулся, выпустив палку.
Все предметы в его глазах смешались и летели куда-то вместе с потолком, полом и людьми вверх ногами. Он сидел, разиня рот, повторяя:
– Вот, вот, говорю, зубоскалы... девка!.. палкой тебя, палкой!..
– Палкой тебя, дед, палкой!.. – передразнила Амальтея, стуча дубинкой об пол.
Ультим запел одну из давно сложенных здесь импровизаций:
У царя Мидаса были
Ослиные уши;
У Балвента-свинопаса
Разум поросячий,
Ду-ду-ду! хрю-хрю-хрю!..
– Я те палкой! – вскричал старик, вскакивая с пола и обратился к Амальтее уже плаксиво, – девка, отдай мою палку, отдай!..
Он с трудом стоял на разбитых ногах, перевешиваясь корпусом и держась за стол.
Тертулла, при всей ее обыкновенной болезненной угрюмости, смеялась на бессильную злость свинопаса, а Грецин, ухватившись за бока, покатывался у стола, забыв про испорченную гирлянду, оглашая комнату гулко раздававшимся басистым хохотом.
Развеселившиеся люди не замечали, как шло время, не замечали и того, что приглашенные на свадьбу сельчане, ожидаемый жених и старший сын Грецина, Прим, надзиравший за пилкой леса, проданного на топливо деревенским, находившийся там с несколькими рабочими невольниками усадьбы, что-то запоздали, не идут к ужину, – не замечали и того, что буря с минуты на минуту все усиливается.
Ужасные порывы вихря с бешенством налетали на стены прочного дома, ударяясь, как таран осаждающего неприятеля.
Балвентий гонялся за Амальтеей, которая дразнила его, не отдавая отнятую палку, а Ультим дудел, хрюкал, лаял на него, стараясь надеть на его лысую голову колпак, свернутый им из выпачканной грязью тряпки, в которой он пронес свинину, причем два угла были связаны в подобие свиных ушей.
Выживший из ума свинопас давно был предметом потехи всего округа.
ГЛАВА XVII
Филемон и Бавкида
Никто не заметил, как проник в усадьбу без стука у калитки, как вошел в комнату и стоял в дверях черноволосый юноша, в котором никто из римлян не узнал бы рыжего Марка Вулкация, изменявшего свою наружность при помощи хитрой Диркеи, дочери умершего Антилла, которую он давно обольстил, развратил и научил способам выполнения всяких козней.
Узнал бы его теперь Виргиний, – в усадьбе Руфа Вулкаций нередко гостил, – но ему дела не было до затей его двоюродного брата, о котором старая Стерилла преравнодушно отзывалась:
– Ходит так по чужим дворам девок сманивает... ходит, ходит и доходится до беды!.. пусть!.. не все ведь такие как моя дочь.
Узнал бы его также и Тит-лодочник, с которым Вулкаций давно сошелся до дружественной фамильярности.
Но Виргиний, Тит, Стерилла и ее дочь не имели никакой цели выдавать перекрашенного аристократа и не понимали, для чего он это делает, предполагая единственным намерением обольщение красивых поселянок.
Войдя незамеченным в квартиру Грецина, «оруженосец Вераний» с лукавою усмешкой любовался игрою девушки, дразнившей старого свинопаса.
Вераний, под псевдонимом которого крылся Марк Вулкаций, был в таких летах, когда усы едва начали опушать ему губы, но в его глазах уже мелькал огонек, выдававший развитие понятий более широкое, чем бывает у человека такого возраста, и люди, складом ума проницательнее и внимательнее толстого Грецина с его семьею, могли бы открыть в этом прощелыге человека образованного под личиной неуча и аристократа в платье раба.
В семье управляющего даже был такой человек, старший сын его Прим подозрительно косился на Верания, но никто не внимал его остережениям и указаниям, лишь одна мать соглашалась с ним без всяких оснований, в силу лишь того, что Вераний просто не нравился ей, как не нравился и никто в мире по ее болезненной раздражительности.
Его худощавое и бледное, что называется, «испитое» лицо было вовсе некрасиво, хоть и имело тонкие, правильные черты; хитрость проныры портила его общее выражение.
Вераний незаметно подкрался и поймал Амальтею в свои объятия, восклицая:
– Вот это я люблю!.. Люблю тебя такою игривою, бойкою. Долой угрюмость!.. Терпеть не могу твоего нытья!.. Будь всегда веселою, когда я прихожу, Амальтея!.. Ты смеешься перед нашею свадьбой; ты счастлива, рада быть моею; вижу, вижу, что нравлюсь тебе... это хорошо!..