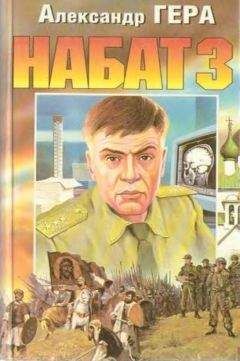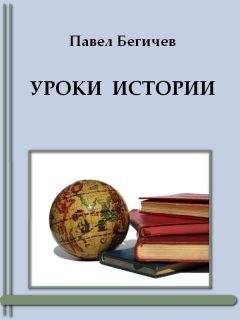Людмила Шаховская - При царе Сервии
Упрямая мысль брала верх над всеми доводами рассудка, и наконец даже назойливо стала утверждать, что пострадать ради Виргиния будет не тяжко. Он так грустен, так измучен, устал; он, очевидно, страдает... не такой ли он раб перед своим дедом, как она перед господами? Не одинакова ли их участь? Руф тоже имеет право убить своего внука, властью старшего в роде, как и Турн – ее.
Амальтея, пожертвовав собою, как бы разделит муки Виргиния... и это почему-то так сладко... сладко... желаннее всех ласк, какими ей надоедает нахальный Вераний, приятнее всех подарков, какие он сулил привезти после свадьбы.
Она наступила на что-то твердое, круглое и поскользнулась; это была пуговица, какой не могло оказаться ни у кого из ее ближних, – большая, золотая пуговица с патрицианской сорочки или тоги, украшенная эмалью.
Амальтея подняла ее и с удивлением рассматривала при тусклых сумерках последнего света кончившегося дня. Чье это? Господа давно не были в деревне... Сунув пуговицу в узел, который несла, она стиснула руки до того крепко, что пальцы захрустели, в порыве поднявшейся в ней злости и едкой скорби.
Виргиний, как живой, предстал ее памяти; вся сцена в беседке повторилась пред нею; Амальтея бегом подбежала к калитке, на этот раз незапертой в виду ожидания гостей, и, только очутившись в теплой комнате, сознала, до какой степени она измокла и иззябла, пробродив по деревне, невзирая на ужасную погоду, до самой темноты.
ГЛАВА XV
В ожидании жениха
Амальтея долго дышала себе на руки: махала ими, топталась на одном месте, отогревая застывшие ноги, с бормотаньем бессвязных фраз о погоде.
– Этаких ужасов с самой моей молодости не запомню!.. – говорила Тертулла, перенося свое ворчанье с мужа на дочь. – Как будто все водяные и лешие разыгрались по болоту... вой... свист... град так и хлещет... точно осколки битой посуды об стены дребезжат...
Она помолчала и указала на узел, который дочь продолжала, не замечая того, держать под мышкой.
Старуха знала, что там могло заключаться: при таких визитах невест к соседкам с приглашением на пир тогдашние полудикие люди обыкновенно разменивались подарками, хвастаясь рукодельем, стряпнёю, растительными продуктами сельского хозяйства, – но все-таки задала вопрос:
– Чего принесла?
Амальтея не ответила, принявшись растирать замерзшие ноги.
– Пальцы свело... ох!.. ломит!..
Она уселась на лавку к столу, причем задела и оборвала одну только что прибитую отцом гирлянду.
Грецин с невозмутимым хладнокровием толстого флегматика взялся поправлять беду, и жена снова накинулась на него:
– Старый выдумщик!.. насорил по всей комнате, – она указала на разбросанные по полу листья и негодные голые хворостины, – сам насорил, сам и подметай!.. Никто из нас не дотронется... Пусть гости об эту дрянь спотыкаются!..
– Нельзя, матрона моя, нельзя, – отозвался старик с пыхтением над своею работой, – дуб – символ крепости, здоровья... Мирта знаменует всякое благополучие, согласие, мир семейный... Лавр – успех во всем...
– Ну тебя с твоей сибаритской символикой!..
– Нельзя... надо... будет пир, свадьба нашей единственной дочери...
– Да еще будет ли?.. Увидим!.. Жених-то нас сколько раз обманывал!.. А уж теперь и подавно есть у него предлог: куда он тут в этакую темень проедет? Куда сунется через нашу топь? В болото его сдует.
– Ну вот... не пророчь недоброго!..
– Ничего я не пророчу, а только правду говорю. И надо было девке таскаться по подругам, еще ничего не видя, когда, может статься, не будет у нас ни обряда, ни праздника!.. Гостей, вишь, скликать... если сойдутся эти гости, а жених-то, ждать – пождать, не приедет? – лучше тогда будет?.. Обдеру я все эти хворостины, свяжу в метлу, да и отваляю ими тебя, архонт сибаритский!.. Слышишь, как дочь-то охает? – еще сляжет, пожалуй... этого недоставало!.. Умничал ты, умничал с твоим Сибарисом-то, да и сглупил на старости лет хуже всякого дурака!..
Тертулла начала всхлипывать с причитаньем о дочери, посланной отцом «на убой» в такую погоду.
Глаза Амальтеи вспыхнули ярким пламенем, выдавая возникшую моментально мысль притвориться больною, если это понадобится для ее целей. Она порывисто обняла Тертуллу.
– О, матушка!.. Мама!.. О, если бы он не приехал!..
– Кто, глупая?
– Вераний... я захвораю... я чувствую, что захвораю... не до гостей, не до него мне!..
Амальтея застонала гораздо жалобнее, чем требовало состояние ее тела, а мать бесцеремонно вынула из-под ее руки принесенное ею.
Из развязанного узла вывалился сладкий пирог, связка мелких кореньев, редька, несколько лепешек и пестро раскрашенная металлическая пуговица, найденная девушкой вблизи усадьбы и оттого сочтенная за несомненную собственность Виргиния, оторванную им второпях у калитки.
Эта пуговица теперь была «святыней сердца» Амальтеи – роковым, дивным предлогом к новому свиданию со внуком фламина, мотивированным пред собственной совестью неотложною надобностью, как бы вопросом чести, отнести оторванную пуговицу владельцу ее.
Занявшись растиранием озябших ног, Амальтея с минуту не обращала внимания на дело матери, но затем внезапно, как ястреб на добычу, кинулась, сгребла со стола все принесенное в беспорядочную кучу, причем лепешки с пирогом изломались, редька втиснулась в начинку из яблок с медом.
– Что же это такое, мама?! Мне подарили, а ты с братьями съедите.
– Когда же это было, чтобы мы льстились на деревенскую дрянь! – обидчиво и удивленно отозвалась старуха, – чего ты горланишь, словно маленькая!.. Лепешки отнимем! – невидаль какая!.. Своих-то нынче целую гору напекли.
Старуха встала с лавки, забросила прялку на шкаф так сердито, что та перелетела через него и свалилась на пол; отшвырнув ее ногою в угол, она поплелась к печи, где доваривалось кушанье для ужина, продолжая ворчать на странное поведение дочери.
– Мне ничего и не нужно, дочка... не возьму... прежде, бывало, хорошие гостинцы от господ нам отдавала, а ныне редьки ей жаль.
Амальтея растерянно смотрела на скомканную кучу теста и кореньев, забыв озябшие ноги; ей вместе хотелось и обнять мать, просить у нее прощенья, и ругаться с нею; раздвоив свои желания, она предпочла не делать ни того, ни другого и молчала, точно остолбенев в неподвижной позе.
Неизвестно, чем могла завершиться выходка молодой особы, если б этой сцены не нарушило появление других членов семьи.
Дверь снаружи дома отворилась, причем буря бешено распахнула обе ее створки, так что пришедшие с трудом могли притянуть их за собою; в комнату влилась пронзительная струя холодного вихря, а с нею вместе, точно с размаха вкинутые ее порывом, вбежали двое мужчин, ухватившись за руки, чтобы не упасть, если поскользнутся на гладко утрамбованном земляном полу жилища управляющего.
Одним из этих пришедших был свинопас Балвентий – дряхлый старик, умом глупый от природы, а от однообразной жизни при господской свинарне почти впавший в детство, ставший едва ли выше свиней, какими заведовал; он был одет в лохмотья; таких невольников низшего разряда у римлян не снабжали ничем хорошим.
С ним был младший сын Грецина Ультим, весельчак, юноша; оба они принесли что-то, чего при плохом освещении еще было не видно; вода лилась с них ручьями; они долго отряхивались, причем Ультим ругался на погоду, главным образом за то, что за воем вихря он, привратник усадьбы, не услышит, когда приглашенные в гости сельчане застучат в калитку, и оттого оставил ее отпертою, что господином строго запрещено.
– А как вдруг кто-нибудь из господ вздумает наведаться да увидит, что там не заперто, – пропаду я, засекут, задерут, в болоте утопят, – но не сидеть же мне у калитки на дожде!.. Я и так измок, покуда в свинарню за мясом бегал; не близко туда.
Балвентий, напротив, детски хохотал, часто повторяя один и те же слова, слегка гнусавя и с пришепетываньем.
– Вишь, град-то, град-то... так и бьет, так и бьет; думалось, вихрь сдует, думалось, забор-то самый повалит. Уж я сюда-то бежал, бежал, ковылял, ковылял... и колбасу-то, колбасу-то чуть не разронял всю по лужам: бегом ведь бежал сюда-то за этим зубоскалом Ультимом; не поспею никак за ним; убежит он от меня, боюсь, и фонарь-то, фонарь-то с собой унесет... останусь впотьмах на болоте... что тогда?!
Между тем Амальтея, выхватив из крошева переломанных лепешек таинственную пуговицу с предполагаемой патрицианской тоги, намеревалась скрыться со своим сокровищем в темную каморку, служившую ей спальней.
Балвентий, которого она случайно задела локтем, вцепился в ее платье, говоря:
– Девка!.. чего от меня бежишь?.. не съем ведь, не съем тебя.
ГЛАВА XVI
Шалость молодежи
Амальтея сердито вырвала платье из костлявой пятерни дряхлого свинопаса и при этом выронила свою «святыню»; пестрая пуговица со звоном покатилась прямо под ноги Ультима; тот не замедлил поднять ее, удивленно спрашивая сестру: