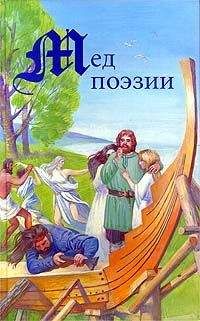Елена Крюкова - Русский Париж
Шевардин еле стоял на ногах. Худоба его издалека бросалась в глаза. Богатый и густой грим не спасал лицо, уже похожее на череп. Изможденный, больной, сегодня пел все равно. Он пел бы и на смертном одре. Он там и будет петь. Так и уйдет к Господу Богу — поющим: исторгая звуки, разевая усталый огромный рот с диким раструбом золотого горла.
— О, да-а-а-айте, дайте мне свобо-о-оду! Я мой позо-о-ор сумею искупить… я Ру-у-усь от недруга спасу-у-у-у!..
Юмашев забил в ладоши, громко крикнул:
— Бра-во!
Зал взорвался рукоплесканьями.
Тишина не успела настать. На весь зал раскатился выстрел.
— Боже мой, — громко сказала Аля и зажала рот рукой.
Игорь, сидевший рядом, стрельнул в нее глазами. Последний ряд партера! Выход рядом.
Публика повскакала с мест. Визг женщин разрезал уши.
Шевардин покачнулся. Удержался на ногах. Ярко-красные шаровары Хакимова растеклись атласной кровью по яично-желтым доскам. Хакимов странно, по-петушиному, как крыльями, вздернул обеими руками, сделал шаг вперед и резко, обреченно завалился назад. Упал. Громко, деревянно стукнулся затылком о доски.
Зрители кричали, вопили. Иные повскакали с мест, бежали к выходам. Искали выхода, рвали, терзали краснобархатные, алые, малиновые портьеры. Кровь! С потолка, из-под балкона стекала кровь. Хлестала вниз, на затылки и плечи, водопадом.
Игорь схватил Алю за руку.
— Слушайте. Времени нет. У меня револьвер. Меня поймают, обыщут… и обвинят. Меня посадят в тюрьму! Вы — русская! Спасите меня!
Шевардин на сцене тоже упал, бессильным, огромным тяжелым кулем, рядом с Хакимовым.
Народ визжал, ломился к выходам, дамы плакали в голос. Низкорослый мужчина хищно срывал пушистое горностаевое боа с плеч у пышнотелой мадам. Юмашев, Юкимару и Картуш холодно, по-буддийски спокойно наблюдали панику. Сидели в партере; не тронулись с места.
— Больше стрелять не будут, Виктор. Это дешевый террор. Кто-то очень хотел убить Хакимова.
— О да. Опера. Сцена. Убийство как спектакль. Понимаю.
Юмашев вытащил из кармана портсигар, вынул гаванскую сигару, зажигалку от «Zippo», закурил. Он всегда курил сигары; любил крепчайший, острый табак.
Игорь схватил Алю за руку. Тащил за собой. Они оказались в людском водовороте близ узких, крашенных белилами, украшенных лепниной дверей выхода. Алю сжали, как в тисках, она задохнулась и закричала.
Игорь обнял ее за плечи, потянул, прижал к себе. Так, вдвоем, крепко обнявшись, как двое влюбленных, они пробирались сквозь визжащую, ополоумевшую толпу — мужчина и девочка.
Их вынесло на улицу на гребне людской волны.
Волна, прибой, море. Людское море.
— Страшно людское море. Можно утонуть, не выплыть, — сказал Игорь, отдуваясь, вытирая со лба пот ладонью. Потом взял Алину руку — и ею, маленькой полудетской лапкой, вытер мокрый ее лоб.
— Мы как из моря. Плавали… и выбрались на берег.
«Шевардина тоже увезли в больницу?» — думала Аля, глядя в близкие, очень близкие глаза незнакомца. Русский! В «Гранд Опера»! И этот выстрел. Как мама не хотела, чтобы она сегодня шла в Оперу! Зато мадам Козельская — хотела. И эта контрамарка, бесплатная, пахнущая дорогими духами мадам. На бело-розовой плотной бумаге; на два лица. Аля была одно лицо, и она пошла. Отец и мама отказались. Ника еще очень маленький для спектакля.
— Идемте к нам домой, — Алин голос сбивался на рыданье. — Идемте скорей! Бежим! Выбросьте револьвер! А то вас поймают!
— Ну уж нет, — весело сказал Игорь. — Теперь-то не выброшу. Бежим! Ведите!
Взявшись за руки, они побежали.
За их спинами слышались крики, плач, ругательства. Люди топали как лошади. Аля чувствовала жар, исходящий от потрясенной, напуганной толпы. Толпа — чудовище. Революции и войны делают не люди — чудовища; она теперь знала это.
Когда в России делали революцию, она была еще малышка. Несмышленыш.
Дым смертного мороза за грязными окнами. Печь топи не топи, все холод. Дохнешь в комнате — пар изо рта, как у лошадей. У нее на руках — кроха-сестра, Леличка. Леличка умерла от голода в приюте. Анна сдала ее в приют, когда Аля заболела тифом. Аля умирала дома, а Леличка — в приюте. Когда Леличка еще жила дома, Аля привязывала ее за ногу к ножке кровати. Чтобы не мешала; чтобы не бегала везде и не разбила себе нос. Аля очень боялась, когда кровь из носа шла. Революция, кровь, красные флаги. Мама ходила на расстрел и осталась жива.
А сейчас в «Гранд Опера» расстреляли великого Хакимова; и он умер. Или жив, ранен?
От «Гранд Опера», похожей на пышный разноцветный торт, они сломя голову добежали до метро. Нырнули под землю. Аля запыхалась. Игорь глядел на нее сверху вниз. Он был очень высокий, а она маленькая: не выросла, мама говорила, вырастет еще.
* * *Игорь озирал дом, куда его привели. «Да, нищая квартирка. И так много людей! Голоса за стеной. Бедлам. Вавилон. Париж — Вавилон, а мы — вавилоняне; и грех на нас, и кара падет». Углом рта улыбался. Алино лицо потно, красно. Какая она вся мокрая под нарядным платьицем. Пот течет по шее, по лбу.
Ее мать им открыла, должно быть. Сухая. Надменная. Злая.
— Бон суар, господа. Аля! Познакомь с гостем.
Ни вопроса; ни гнева; ни любопытства. Будто бы масляную краску из тюбика, медленно выдавливает слова. Какие зеленые глаза! Чистая зелень. Ягоды крыжовника. Наглые, зеленые, соленые. Влажные, будто вот-вот взорвутся слезами.
— Мама… я… мы в Опере…
— Ты из Оперы кавалера привела?
Не голос — жесткий сухарь. Не разгрызешь.
— Мама, это не кавалер! Человек в беде! Я его…
— Ваша девочка меня спасла, — наклонил голову Игорь. В темных густых волосах давно пробежала белая искра. Он рано начал седеть. — В «Гранд Опера» прогремел выстрел. Стреляли в Хакимова. Кажется, попали. Мы убежали, я не знаю, что там произошло. Началась паника. У меня с собою револьвер, мадам. Меня могли арестовать. Клянусь, не я стрелял.
Улыбка опять искривила губы.
И рот этой мегеры покривился в улыбке: будто кривое зеркало отразило его лицо.
О да, чем-то они с грымзой похожи. Чуть с горбинкой носы. Седина в волосах. Жесткие черты красивых, породистых лиц.
Он стряхнул наважденье. Вся в морщинах баба. Не первой свежести осетрина. Еще чего, заглядываться на такую! Смех.
— Аля, переоденься, все платье испачкала. Анна.
Протянула сухую, твердую, как доска, руку. Пожал.
Ощутила тепло и власть. Насмешку. Осторожность: не раздавить бы хрупкие дамские косточки.
— Игорь. И опера, смею заметить, «Князь Игорь».
Сухо хохотнул. Зеленоглазая мымра сухо, натянуто улыбнулась бледными, лиловыми губами.
Аля уже хлопотала, нервно, услужливо собирала на стол. О, нищета! Стол-то газетами застелен. Вместо фарфоровых тарелок — жестяные миски. Хлеб девчонка режет — черный! На сдобу к чаю, уж верно, денег нет. Ба, тут и детская кроватка в уголку! Пустая. Где младенец? А, так тихо спит! Не проснулся от голосов, от света. Золотой ребенок!
— Садитесь, месье Игорь!
— Какой я месье!
Ему в тарелку каши наложили. Нос морщил, а ел: не обижать же хозяев! Анна, прищурясь, наблюдала, как Игорь ест. Изящно, отставив мизинец, все летает в руках: ложки, вилки. Хлеб красиво ломает в длинных, крепких смуглых пальцах. Стало тревожно, горько. Отчего? Не понимала.
Раздался стук в дверь. Анна глянула на часы с маятником, Лидия их из Москвы привезла, фирмы «Павелъ Буре»: о, уже двенадцатый час! Вечер поздний.
Она процокала каблучками к двери, Игорь одобрительно покосился на ее сухие легкие ноги. «Дома ходит на каблучках, не в тапочках. Хвалю. Есть, есть в ней грация».
— Супруг прибыл, — мрачно бросила, вернувшись в гостиную. — Работает допоздна.
Правду сказать, она не знала, где он пропадал вечерами. Семен успокаивал ее, целуя в руку, в острое плечо: «В русском клубе, Анночка, такие дискуссии! Все спорят: кому мир достанется — Евразии или Америке?».
Игорь сжался, подобрался, как зверь перед прыжком. Спину выпрямил, выгнул. Глазами стрелял. Ложку в руке зажал. Каша, селедка. Репчатый лук Аля кольцами нарезала. Угощенье на славу. О, где ты, жареное на вертеле мясо аргентинских притонов, приморских таверн.
Семен вошел, опахивая всех сыростью, запахом тополиных почек — шел дождь.
— Так мокро, господа! Прямо питерская погодка! — Увидел за столом гостя, осекся, вспыхнул, как юноша. — Здравствуйте, с кем имею честь?
Игорь встал, поклонился. Даже каблуками щелкнул по-военному.
— Игорь Конев.
— Семен Гордон.
Аля видела, как закусила губу мать. Отец ее никогда не ревновал, ни к одному ее мужчине. У нее в России, в Берлине и в Праге были романы, и, как Анна ни скрывала их от дочери, Аля — догадывалась. Владимир Иртеньев и князь Волконский в Москве. Михаил Волобуев в Коктебеле. Николай Крюковский в Петербурге. Андрей Быковский в Берлине. Гиацинт Бачурин и Берт Блюм в Праге. А поэт Эрих Мария Рейнеке, восторженный немец? А Глеб Погосян? А Розовский? А Букман? Юноши и старики. Князья и мужики. Стихоплеты и офицеры. Аля закрыла глаза. Стыд не дым, глаза не выест. Мама, мама, да ведь ты поэт, а поэт — он что? Он — свободен! Ветер!