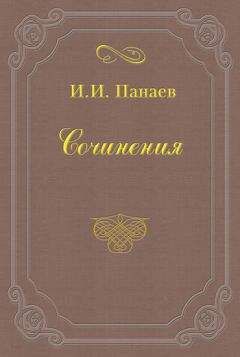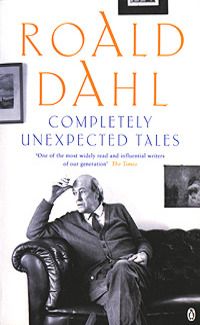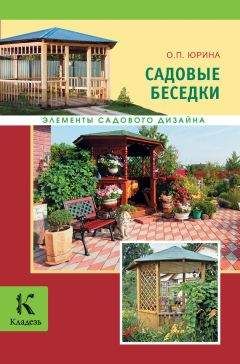Сергей Мосияш - Святополк Окаянный
— Святополк? Что с тобой?
Княжич не ответил, продолжал хрипеть и метаться на постели. Варяжко вскочил и, приблизясь к ложу, поймал рукой лоб отрока. И понял — у мальчика сильный жар, княжич без памяти. «Застудился, — подумал Варяжко, — надо будить княгиню».
Был вздут огонь, зажжены свечи, подняты служанки. Арлогия, придя в опочивальню сына, присела к нему на ложе, ощупала рукой лоб мальчика, прошептала испуганно:
— Боже мой, за что?
— Моя вина, княгиня, — вздохнул Варяжко. — Не надо было в Погост ездить. На обратном пути нас буря прихватила, а они еще с отроками кричать вздумали.
— Кричать? Зачем?
— Да Стрибога звали.
Служанка, стоявшая в дверях, молвила негромко:
— Надо бабку Буску звать, она все хвори знает. Травами и заговорами любую изгонит.
— Зови бабку, — обернулась княгиня. — Скорей зови.
Привели бабку Буску, маленькую, сгорбленную, седую старушку с пронзительными темными глазами. Она подошла к ложу больного, взглянула на него:
— Несите ко мне.
— Куда? — удивилась княгиня.
— Ко мне в мою избу.
— Это где же?
— А самая крайняя на посаде в сторону Верасницы.
— Бабушка, — взмолилась княгиня. — А нельзя ли здесь, во дворце?
— Здесь? — переспросила старуха и решительно молвила: — Здесь нельзя.
— Но почему?
— Здесь мне будут мешать.
— Кто?
— А все. И ты в том числе.
— Я? — удивилась Арлогия. — Но я же мать.
— Ты мать здоровому дитю, — сердито отвечала Буска. — А хворому дитю я мать. Ежели не согласна, то я…
— Согласна, согласна, — отвечала княгиня, обеспокоенная даже намеком на отказ старухи. — Никто тебе не станет мешать.
— Ну что ж, коли так. Вели твоим слугам сполнять все, что им велю. В своей-то избенке я б сама со всем управилась, а тут у тебя все на растопырку: ложе тут, поварня там, медовуша в другом месте. У меня-то дома все под рукой. Пока я схожу к себе за травами и зельем, пусть в поварне греют воду, сыту, растопят нутряного сала, достанут меду липового. И в опочивальню к хворому чтоб никто носу не совал, не мешал мне с богами разговор вести, хворь изгонять с дитенка.
И бабка: Буска поселилась в опочивальне княжича, удалив оттуда даже пестуна Варяжку. «Тебе тут делать нечего». Оставшись наедине с больным княжичем, старуха сняла с него сорочки верхнюю и нижнюю, кинула к порогу. Увидев нательный крестик серебряный, проворчала что-то себе под нос и, сняв его, кинула на подоконник. Затем, зацепив пальцем из плошки топленого нутряного жира, стала натирать больному сначала грудь, потом спину, бормоча под нос: «Поди прочь, хворь поганская, в леса, в болота, в дрягву[42] плывучую, в дебрь дремучую. Оставь дите наше — красоту писану, сердцем незлобливу, мыслию добрей, всеми любимую».
Натирала столь долго, пока самой сил хватило. Натерев, укутала, укрыла княжича. Затем велела в поварне нагреть медовой сыты, едва ли не до кипения, и принести в корчаге. Заткнула горловину корчаги и укутала; в овчинную шубу. Затем из трав наготовила питья, уставила весь стол у окна пузырьками с зельем. Сама, сходя в поварню, изготовила на огне взвару из липового меда, добавив в него настой целебных трав. Воротившись в опочивальню, застала там княгиню, сидевшую на ложе сына.
— Сердце материнское тревожится, — сказала старуха. — А ведь уговаривались не мешаться.
— Это… мне сказали, что ты в поварне, я и пришла, чтоб одному ему не оставаться.
— Ну, коли пришла, то вели принести нам с десяток свечей, чтоб у нас тут не гасло по всем ночам, и пару шуб али тулупов, чтоб дольше взвар не остывал. Ну и с пяток свежих сорочек для хворого. Те вон, что сняла я, у порога лежат, забери их да вели выстирать в снеговой воде да высушить на ветру вольном. Она ведь, хворь-то, прилипчива, как жаба болотная, как змея подколодная.
Укутав горячую сыту и взвар в шубы, оставив в трехсвечном шандале гореть лишь одну свечу, бабка Буска постелила себе на полу тулуп у ложа больного. Потом, обойдя опочивальню и бормоча заклятия хворям, по нескольку раз плюнула в каждый угол и наконец улеглась.
Уснуть долго не могла, прислушивалась к дыханию княжича, уже после вторых петухов забылась чутким, тревожным сном. И тут же проснулась, заслышав, как заворочался на ложе княжич. Вскочила. Заглянула в лицо ему.
— Ты кто? — испуганно спросил отрок.
— Я бабка Буска, деточка. Не боись, я тебя лечить приставлена. Ведь ты ж пить хочешь. Верно?
— Угу.
— Вот и ладненько, — засуетилась старуха, раскутала шубу, где была корчага с ее снадобьем. — Ещет тепленькое, не остыло.
Налила кружку, поднесла княжичу, другой рукой голову ему приподняла.
— Пей, деточка, пей, милай.
Святополк пил, с трудом сглатывая.
— Горлышко болит? Да? Подоле в горлышке-то держи, детка. Пофырчи так вот. Вот-вот.
Едва напоив княжича, старуха пошла в поварню, подняла повара, приказал варить для хворого овсяную кашу и уху из свежей рыбы. Велела топить печь в опочивальне княжича.
— Ишь ты, Перун в юбке, — ворчал повар, но ослушаться не посмел.
Едва повеяло от печи теплом, как бабка, раскрыв княжича, взялась вновь натирать его, бормоча свои заклинания: «Поди прочь, хворь поганская…»
— Теперь, детка, повернись на спину, буду грудь тереть.
И натирала старательно, долго, почти до изнеможения.
Святополк смотрел на нее внимательно и наконец спросил:
— Почему тебя Буской зовут? Ты ж уж старая.
— Ой, деточка, — улыбнулась старуха, — Я ж не всегда такой была. Родилась, как мама сказывала, с рукавичку всего. А на дворе дождь бусой лил[43], мелкий, значит, как пыль, вот по дождю и назвали Буской. Отец недоволен был, что я родилась, ждал парня. Ну, а за мной, слава Сварогу, родился и парень, стало быть, брат мне. Ну Жданом и нарекли, потому как ждали. Кажному имени, деточка, своя причина есть. Кажному.
— Значит, и моему?
— И твоему, деточка. А как же? Ты ж не осевок какой, а князь. Святополк — это значит святой воитель. Да, деточка. Значит, это тебе от рождения определено. Не зря ж вон тебя пестун натаривает и из лука, и копья кидать. А ну-ка давай свежую сорочку наденем.
Старуха стала натягивать на отрока сорочку, он спросил:
— А где же мой крест, Буска?
— А эвон на подоконце, — отвечала бабка пренебрежительно.
— Зачем ты сняла его?
— А шоб не мешал.
— Но это ж Бог.
— Может, и Бог, но не наш, детка. Не наш, коли тебя от хвори не сберег. Наш главный бог — Сварог. Как у нас поется-то: «У бога Сварога деток много. Перун — сынок, Стрибог — сынок. И Дидо и Ладо тоже сварожата, потому как Сварог всего неба бог. Поклонимся Сварогу — главному богу, одарим медом и житом, что потом нашим нажито». Вот так-то, детка.
Буска опять тепло укутала княжича.
— А сейчас будем есть.
— Я не хочу.
— Надо, детка, надо. Не будешь есть, хворь не выгоним. Голод еще никого не вылечивал. А овсяная каша силу дает, детка. Поешь овса, возьмешь лук и стрелишь стрелой аж через Припять.
— И перелетит стрела?
— Как есть перелетит, детка. Конь-то откуда силу берет? С овса, детка, с овса.
Так с приговорками накормила-таки Буска хворого отрока. Потом дала опять лекарства выпить, горло выполоскать.
Когда рассвело, была потушена свеча, в оконце засветило солнце, пришла в опочивальню княгиня.
— Ну как?
— Слава Сварогу, — отвечала Буска, — хворь-то по углам разогнали, но сидит она еще здесь, сидит, злыдня. Те-то сорочки выстирали?
— Нет еще.
— Как же так? В них же злыдня эта таится. Скорее гнать ее надо, скорее. Вот лечила б у себя в избушке, сразу б выстирала. А у тебя слуг много, рук мало, княгинюшка. Не сердись.
— Я сейчас же распоряжусь. Встирают.
— Распорядись, милая, распорядись.
Арлогия прошла к сыну, присела на ложе, ласково погладила его по щеке:
— Что, сынок? Плохо?
— Сейчас ничего, — отвечал Святополк, тяжело дыша. — Ночью было плохо, что-то шибко в груди давило, хотелось проткнуть ее.
— Ты уж бабку Буску слушайся, сынок.
— Да уж слушаюсь, — отвечал княжич, вымученно улыбнувшись, — У бога Сварога деток много, Перун — сынок, Стрибог — сынок и Велес — скотий бог тоже сынок… — и повторил всю присказку, которую только что услышал от Буски.
— Это ж надо, — удивилась старуха. — Память-то, память какая у княжича. Сразу видать, княжьих кровей отрок.
Похвала старушечья более княгиню согрела, чем княжича. Арлогия никогда никому не говорила, но в душе твердо убеждена была, что если кто и достоин в грядущем великого княженья, то это ее сын — Святополк. Ведь его отец Ярополк был рожден королевой венгерской, законной женой Святослава. А Владимир? Рожден рабыней, наложницей Святослава. И теперь в его детях, рожденных от разных жен, есть и рабья кровь. А у Святополка не то что у названых братьев, этих самых Вышеславов, Ярославов, Мстиславов, у него королевская кровь. И он даже мог бы претендовать на королевскую корону, а уж на великокняжий стол ему сам Бог велел.