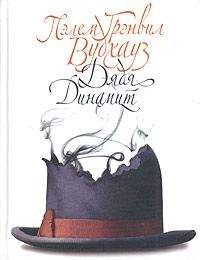Леонтий Раковский - Кутузов
Варвара Никитишна разрешила им незаметно уйти из столовой.
— Только попроси тетушку сопровождать вас.
— Тетенька, милая, поедем! — приласкалась к Прасковье Ивановне Катя.
— Ну, поедем уж, что с тобой делать, баловница! — неохотно поднялась тетушка.
Гости продолжали сидеть у стола, оживленно разговаривая.
Они вспомнили молодость, военную службу. Дмитревский рассказывал о том, как он был в Париже и Лондоне.
Михаил Илларионович оделся, велел своему кучеру подать сани к крыльцу и ждал Катю и Прасковью Ивановну в вестибюле.
Катя выбежала в собольей шубке и беличьей шапке. Маленькая, верткая и черноглазая, точно белочка.
Кутузов залюбовался ею.
Сзади медленно плыла в лисьей шубе, точно попадья, тетушка.
Они сели в сани и поехали к Адмиралтейскому лугу, на котором устраивались все народные развлечения.
Погода благоприятствовала проводам масленицы: было безветренно и чуть морозило.
На улицах встречалось больше народа, чем обычно.
Величественно проплывали роскошные придворные кареты, запряженные цугом, с нарядными гайдуками на запятках.
Мелкой рысцой трусили чухонские лошаденки, украшенные бумажными розами. В их тесных санках едва умещалась честная компания ремесленников или чиновников с разрумянившимися барышнями.
И с гиканьем и песнями мчались тройки. В розвальнях стояли, сидели и лежали подгулявшие бородатые купчики с приятелями, женами и детьми.
Масленичное катанье было в полном разгаре.
А издалека, от Адмиралтейского луга, уже доносился веселый, разноголосый шум.
Когда они подъехали к Полицейскому мосту через Мойку, где начиналась масленичная толчея, тетушка не стала вылезать из саней.
— Я не хочу. Я останусь, — сказала она. — Вы походите немного, а я лучше посижу…
— Хорошо, тетенька, мы быстро, — ответила Катя, выпрыгивая из саней.
Михаил Илларионович взял Катю под руку, и они направились к балаганам, у которых легко полоскались на ветру разноцветные флаги.
Адмиралтейский луг тонул в звуках: пронзительно свистели, верещали дудочки, рожки, свистульки; скрипели размашистые качели; заливалась, играла шарманка, тренькали балалайки, задорно бил бубен, ухал барабан.
Отовсюду раздавались назойливые зазыванья разносчиков, пьяные и просто веселые выкрики, хлопушечные, словно орудийные, выстрелы, девичий визг и восторженный детский смех.
Толпа, облепившая балаганы, была разношерстна и цветиста.
Желтые и черные дубленые кожухи барской челяди мешались с зелеными шинелями солдат и мелкой чиновничьей сошки.
И красными, синими, оранжевыми, фиолетовыми цветами пестрели среди них праздничные бабьи платки и полушалки.
И тут же приплясывали на морозе оборванные нищие, выпрашивавшие грош на пропитание; слонялись опухшие присяжные пьяницы; толпились голодные крестьяне, пришедшие из далеких деревень за подаянием в столицу. В стороне от этой толпы, не смешиваясь с "подлым" людом, стояли приехавшие посмотреть в лорнеты на масленичное веселье, а не на эту изнанку жизни, безучастные к чужому горю барыни и баре.
Катя и Михаил Илларионович, не задумываясь, нырнули в пестрый, шумный, веселый людской водоворот.
— Я люблю зрелища! — говорила возбужденная общим весельем Катя.
Они протискались сквозь текучую, праздную, праздничную толпу.
Над их ушами кричали продавцы калачей, пышек, ароматного имбирного сбитня, меда, кваса. Во всю мочь дудели, свистели продавцы глиняных лошадок и деревянных свистулек.
Тянули за рукав к своим ларькам торговцы конфет, пряников, орехов, царьградских стручков.
Но Катя устремлялась все дальше, к балаганам, к ледяной горе, возвышавшейся над всем широким лугом.
Вот наконец первый балаган с красным кумачовым занавесом. И перед балаганом, на шатком дощатом балкончике, — дед-зазывала.
Он в сером кафтане, подпоясанном зеленым ямщичьим кушаком, в громадных лаптях, в лохматой, волчьего меха, шапке, обшитой красной тесьмой. У него длинная льняная бородища и озорные голубые глаза.
Дед-зазывала весело, молодым, двадцатилетним голосом, кричит:
Эх, для ваших для карманов
Сколь понастроено балаганов,
Каруселей да качелей
Для праздничных веселий!
А ну, шевелись, веселись,
У кого денежки завелись!
— Заглянем к нему в балаган? — спросил Кутузов.
— Нет, у них самое интересное на виду, а не внутри. Мы походим, послушаем. Так будет разнообразнее и веселее, — ответила Катя, и они пошли дальше.
Возле следующего балагана такой же разбитной дед потешал, зазывал, но по-иному:
Задумал я жениться,
Не было где деньгами разжиться,
У меня семь дураков —
Медных пятаков
Лежат под кокорою…
Сам не ведаю, под которою…
Катя шла не останавливаясь.
— Подождем, послушаем, — предложил Михаил Илларионович.
— А вы что, не собираетесь ли жениться? — лукаво взглянула на него Катя.
— Собираюсь…
— Пойдем, пойдем! У него женитьба невеселая. У невесты вон какое приданое, слышите?
Они замедлили шаг. А дед под хохот толпы перечислял приданое своей невесты:
Липовых два котла, да и те прогорели дотла,
Сито с обечайкою да веник с шайкою,
Чепчик печальной из материи мочальной,
Кожаная самара[4] да рваных лаптей пара…
— А ведь этот дед не без ехидства, — улыбнулся Кутузов. — Заметили, как он сказал: "чепчик печальной". Это ведь последняя парижская мода. Так и называется: "чепчик печальный".
— Да. Есть еще чепчики "подавленных чувств" и "нескромных жалоб", — смеялась Катя. — Дед не отстает от века. Я ж говорила вам, что зазывалы интереснее, острее прочего.
— Когда моя бабушка выходила замуж в одиннадцать лет, ей в приданое дали куклу, — вспомнил Кутузов.
Но Катя не поддержала разговора о свадьбе. Она была поглощена разворачивающимся вокруг действием.
На их пути встал со своим ящиком с картинками раешник.
Он издалека приманивал:
Подходи, народ честной и божий, шитый рогожей!
Подходи, мужик и барин — всякой будет благодарен!
— Посмотрим? — спросил Кутузов.
И тут же сам невольно подумал: "Одним глазом неудобно смотреть…"
И Катя, словно поняла его мысль, ответила:
— Нет, не стоит — все знакомое: "Париж — угориш", "Москва — золотые маковки… Усиленский собор…" Это для детей хорошо.
— Может, покатаемся на карусели?
— Нет, лучше на качелях. Я люблю их — так дух и замирает. Но это напоследок. А теперь пойдем к Петрушке. Как же, быть на масленичном гулянье — и не повидать Петрушки? Я его очень люблю.
Они повернули и направились туда, где гнусавила шарманка.
Перед ширмой петрушечника толпились ребятишки и взрослые.
Из-за ширмы слышалось то кряхтенье, то какое-то кудахтанье.
И вдруг выскочил всем знакомый смешной Петрушка:
— Здравствуйте, господа. Я, Петрушка, пришел сюда повеселить всех, больших и малых, молодых и старых!
Он сел на барьер, застучал рукой:
— Эй, музыка!
И тотчас же из другого угла ширмы появился музыкант — с громадным носом и скрипкой в руке.
В толпе засмеялись:
— Тальянец, тальянец!
— Что скажешь, Петрушка? — спросил музыкант.
— Я задумал жениться…
— А где невеста?
— Сейчас приведу!
Петрушка исчез за ширмой. Он вывел оттуда красиво одетую куклу:
— Смотри: хороша! Ручки, губки, шейка. Добыть такую сумей-ка. А пляшет как! Ну-ка, сыграй!
Музыкант заиграл "Камаринского". Петрушка пустился с невестой в пляс.
— Ну, дальше пойдет малопристойное: Петрушка станет выбирать для невесты лошадь. Пойдем к качелям, — обернулась к Михаилу Илларионовичу Катя, и они пошли к перекидным качелям.
Когда они взлетели на качелях и стали стремительно падать вниз, Катя прижалась к Мише — стало все-таки страшновато.
И он невольно поцеловал ее в прохладную от легкого морозца румяную щечку:
— Катенька, моя дорогая! Катенька!
Катя полуобернулась к нему и сказала с укоризной:
— И обязательно целоваться на людях? Разве иначе нельзя?
— Значит, целоваться можно? Значит, ты любишь меня? — зашептал Кутузов, не выпуская Кати.
Он не чувствовал больше ни взлетов, ни падений.
— Люблю, Мишенька…
— Когда же повенчаемся?
— Это тебя все Петрушка подбил? — шутила Катя.
— Нет, я давно хотел сказать.
— Знаю, знаю. Но что же делать? Завтра уже нельзя: великий пост. Придется обождать красной горки. Тогда и повенчаемся, — говорила она, и ее черные бибиковские глаза сияли от счастья.
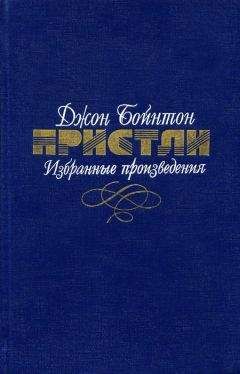
![Вера Кауи - Такая как есть [Запах женщины]](/uploads/posts/books/6935/6935.jpg)