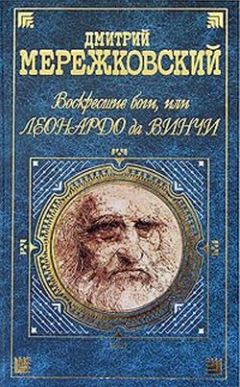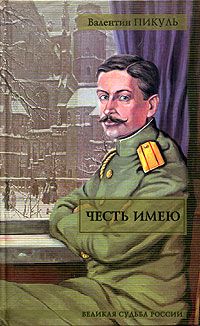Дмитрий Мережковский - Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Каким чудом, после каких скитаний и превращений, изгнанные боги Олимпа, через древнего русского мастера, из еще более древнего византийского подлинника, дошли до города Углича?
Обезображенные рукою художника-варвара, казались они неуклюжими, робкими, словно стыдящимися наготы своей, среди суровых пророков и схимников – полузамерзшими, как будто голые тела их окоченели от холода гиперборейской ночи. А между тем, кое-где, в изгибе локтя, в повороте шеи, в округлости бедра, мерцал последний отблеск вечной прелести. И страх, и удивление чувствовал Евтихий, узнавая в этих с детства привычных и любезных, казавшихся ему святыми, картинках Углицкой Псалтыри соблазнительную эллинскую нечисть.
В памяти его возникали и другие греховные образы, предания старых русских сборников – бледные тени языческой древности: «девица Горгонея, имеющая лицо, перси и руки человечьи, ноги же и хвост лошадиные, а на голове ее змеи, вместо волос»; гиганты одноокие, живущие в земле Сицилийской, под горою Этню; царь Китоврас или Кентаврос, который «от главы человек, а от ног осел»; Исатары или Сатиры, обитающие в лесах со зверями, «хождением скорые – никто их не догонит – а ходят нагие, шерстью обросли, как еловою корою, не говорят, только блеют по-козлиному».
Евтихий вздрогнул, очнулся, набожно перекрестился и прошептал успокоительное изречение русских книжников, которые слышал от Ильи Потапыча:
«Все лгано: не бывало Китовраса, ни девицы Горгонеи, ни людей в шерсти, но эллинские философы ввели. Прелести же сии правилами апостолов и святых отцов отречены суть и прокляты». И тотчас подумал.
«Так ли, полно? Все ли лгано, все ли проклято? Как же в старых русских церквах, рядом со святыми угодниками, изображены языческие мудрецы, поэты и сибиллы, которые отчасти пророчествовали о Рождестве Христовом и, хотя неверные, сказано в „Подлиннике“, но чистого ради жития, коснулися Духа Святого». Великая отрада чуялась Евтихию в этом слове о почти христианской святости языческих пророков.
Он встал и взял с полки дощечку с начатым рисунком, небольшую икону собственной работы – «Всякое дыхание да хвалит Господа» – многоличную, мелкописную, подробности которой можно было рассмотреть только в увеличительное стекло.
В небесах на престоле – Вседержитель; у ног Его, в семи небесных сферах – солнце, луна, звезды, с надписью: «хвалите Господа, небеса небес, хвалите, солнце и луна, хвалите, все звезды и свет»; ниже-летящие птицы; «дух бурен», град, снег, деревья, горы, огонь, выходящий из земли; различные звери, гады; бездна в виде пещеры, – с надписью: «хвалите, все деревья плодоносные и все кедры, все звери и все холмы, хвалите Господа». По обеим сторонам – лики ангелов, преподобные, цари, судьи, толпы человеческие: «хвалите Его, все ангелы, хвалите, сыны Израилевы, все племена и народы земные». Принявшись за работу и не умея иначе выразить чувство, которое переполняло душу его, Евтихий прибавил уже от себя к этим обычным ликам – псоглавого мученика Христофора и бога-зверя Кентавра. Он знал, что нарушает предание «Подлинника»; но сомнения и соблазна не было в душе его: ему казалось, это рука невидимая водит рукой его. Вместе с небом и преисподнею, огнем и духом дурным, холмами и деревьями, зверями и гадами, людьми и силами бесплотными, псоглавым Христофором и во христа обращенным Кентавром, душа его пела единую песнь: «Всякое дыхание да хвалит Господа».
Франциск был великим женолюбцем. Во всех походах, вместе с главными сановниками, шутами, карликами, астрологами, поварами, неграми, миньонами, псарями и священниками, следовали за королем «веселые девочки» под покровительством «почтенной дамы» Иоайны Линьер. во всех торжествах и празднествах, даже в церковных шествиях, принимали они участие. Двор сливался с этим походным домом терпимости, так что трудно было решить, где кончается один, где начинается другой: «веселые девочки» были наполовину придворным. дамами; придворные дамы распутством заслуживали мужьям своим золотое ожерелье св. Архангела Михаила. Расточительность короля на женщин была беспредельной. Подати и налоги с каждым днем увеличивались, но все-таки денег не хватало. Когда с народа уже нечего было взять, Франциск стал отнимать у вельмож своих Драгоценную столовую посуду и однажды перечеканил на монету серебряную решетку с гроба великого святителя Франции, Мартина Турского, не из вольнодумства, впрочем, а из нужды, ибо считал себя верным сыном Римской Церкви и всякую ересь и безбожие преследовал как оскорбление своего собственного величества. Со времени Людовика Святого сохранялось в народе Предание о врачующей силе, исходившей, будто бы, от королей дома Валуа: прикосновением руки исцеляли они шелудивых и золотушных; к Пасхе, Рождеству, Троице и другим праздникам чаявшие исцеления стекались не только со всех концов Франции, но также из Испании, Италии, Савойи.
Во время торжеств по случаю бракосочетания Лоренцо Медичи и крестин дофина собралось в Амбуазе множество больных. В назначенный день впустили их во двор королевского замка. Прежде, когда вера была сильнее, его величество, обходя больных, творя по очереди над каждым из них крестное знамение и прикасаясь к ним пальцем, произносил: «Король прикоснулся – Бог исцелит». Вера оскудела, исцеления становились реже, и теперь обрядные слова произносились в виде пожелания: «Да исцелит тебя Бог – король прикоснулся».
По окончании обряда подали умывальник с тремя полотенцами, намоченными уксусом, чистою водой и апельсинными духами. Король умылся и вытер руки, лицо, шею.
После зрелища человеческой бедности, уродства и болезни захотелось ему отвести душу и дать отдых глазам на чем-нибудь прекрасном. Вспомнил, что давно собирался в мастерскую Леонардо и с немногими приближенными отправился в замок Дю Клу.
Весь день, несмотря на слабость и недомогание, художник усердно работал над Иоанном Предтечею.
Косые лучи заходящего солнца проникали в полустрельчатые окна мастерской – большой холодной комнаты с кирпичным полом и потолком из дубовых брусьев. Пользуясь последним светом дня, торопился он кончить поднятую правую руку Предтечи, которая указывала на крест. Под окнами послышались шаги и голоса. – Никого, – обернувшись к Франческо Мельци, проговорил учитель, – слышишь, никого не принимай. Скажи: болен или дома нет.
Ученик вышел в сени, чтобы остановить непрошенных гостей, но, увидев короля, почтительно склонился и открыл перед ним двери.
Леонардо едва успел завесить портрет Джоконды, стоявший рядом с Иоанном: он делал это всегда, потому что не любил, чтобы видели ее чужие. Король вошел в мастерскую.
Он одет был с роскошью не совсем безупречного вкуса, с чрезмерною пестротою и яркостью тканей, обилием золота, вышивок, драгоценных каменьев: черные атласные штаны в обтяжку, короткий камзол с продольными, перемежающимися полосами черного бархата и золотой парчи, с огромными дутыми рукавами, с бесчисленными прорезами – «окнами»; черный плоский берет с белым страусовым пером; четырехугольный вырез на груди обнажал стройную, белую, словно из слоновой кости точеную, шею; он душился не в меру.
Ему было двадцать четыре года. Поклонники его уверяли, будто бы в наружности Франциска такое величие, что довольно взглянуть на него, даже не зная в лицо, чтобы сразу почувствовать: это король. И, в самом деле, он был строен, высок, ловок, необыкновенно силен; умел быть обаятельно любезным; но в лице его, узком и длинном, чрезвычайно белом, обрамленном черною, как смоль, Курчавою бородкою, с низким лбом, с непомерно длинным, тонким и острым, как шило, словно книзу оттянутым, носом, с хитрыми, холодными и блестящими, как только что надрезанное олово, глазками, с тонкими, очень красными и влажными губами, было выражение неприятное, чересчур откровенно, почти зверски похотливое – не то обезьянье, не то козлиное, напоминавшее фавна. Леонардо, по придворному обычаю, хотел склонить колена перед Франциском. Но тот удержал его, сам склонился и почтительно обнял.
– Давно мы с тобой не виделись, мэтр Леонар, – молвил он ласково. – Как здоровье? Много ли пишешь? Нет ли новых картин?
– Все хвораю, ваше величество, – ответил художник и взял портрет Джоконды, чтобы отставить его в сторону.
– Что это? – спросил король, указывая на картину. – Старый портрет, сир. Изволили видеть… – Все равно, покажи. Картины вои таковы, что, чем больше смотришь, тем больше нравятся. Видя, что художник медлит, один из придворных подошел и, отдернув полотно, открыл Джоконду. Леонардо нахмурился. Король опустился в кресло и долго смотрел на нее молча.
– Удивительно! – проговорил, наконец, как бы выходя из задумчивости. – Вот прекраснейшая женщина, которую я видел когда-либо! Кто это?
– Мадонна Лиза, супруга флорентийского гражданина Джокондо, – ответил Леонардо.
– Давно ли писал? – Десять лет назад. – Все так же хороша и теперь? – Умерла, ваше величество. Мэтр Леонар-да-Вэнси, – молвил придворный Сен-Желе, коверкая имя художника на французский лад, – пять лет работал над этою картиною и не кончил, так, по крайней мере, он сам уверяет.