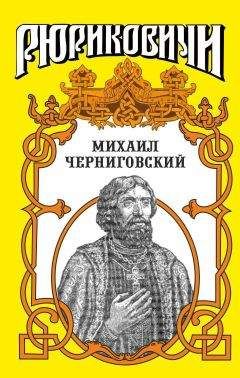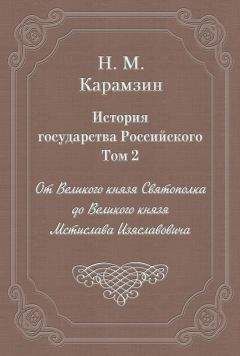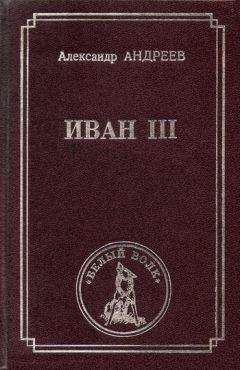Ульрих Бехер - Охота на сурков
— Salü[317].
— Salü.
Чуть косолапя, ставя внутрь носки башмаков с налипшей грязью, они постепенно удалялись, перебрасываясь словами на своем ретороманском языке, — видимо, они говорили о выстреле, оборвавшем молодую жизнь Ленца Цбраджена из Санк-Морица. Ужасная история! «А правда ли, что в ней замешан тот тип у фонтанчика?» Нет, почти невероятно, что обо всем этом могли узнать проводники, если уже в силу своей профессии они ложились спать с курами. Как бы там ни было, но путник вновь вспомнил цепь прежних своих рассуждений, роковых рас-суждений; он видел слишком много мертвецов, а в таких случаях просыпается жажда развлечений. Путник знал, где живет Пина. Не сделать ли попытку влезть к ней в окно, так сказать, «приокниться»?
Он пошел вниз по длинной наружной лестнице вдоль стены гостиницы, прилепившейся к склону горы; запоздавшая летучая мышь хоть и вслепую, но совершенно безошибочно «запеленговала» крупную моль, которая лихорадочно вилась вокруг единственной лампочки на этой наружной лестнице — и вот уже летучая мышь утащила свою добычу (и с сурками и с летучими мышами это случается). Путнику-лунатику пришло в голову сравнить себя с этой загулявшей допоздна летучей мышью. Кстати, когда он в последний раз видел адвоката, летучая мышь тоже охотилась где-то поблизости, да и когда он, в полнолуние стоя у руин башни «Спаньола», обнажил мраморную грудь Пины, вокруг кружила целая стая этих ночных тварей.
«Tanti pipistrelli»[318], — сказала Пина тогда.
Разве она не сообщила ему, что живет одна-одинешенька у подножия наружной лестницы отеля, в первой комнатушке? Спустившись почти так же бесшумно, как летучая мышь, ou свернул на асфальтовую дорожку, над которой висели длинные веревки для сушки белья и вдоль которой шел ряд узких деревянных дверей с окошками (слишком узкими, чтобы влезть в них) да еще с ребристыми ставнями; на окошке, расположенном ближе к лестнице, ставни были полуоткрыты. Из тьмы комнаты доносилось жирное тиканье дешевого будильника.
— Пина…
Внутри раздался негромкий возглас и прерывистый шепот внезапно разбуженной женщины.
— Chi va là?[319]
— Un vecchio pipistrello[320].
Опять отчетливо послышалось жирное тиканье будильника «тик-так». А потом женский голос произнес:
— Chi? Che cosa?[321]
Ночной путник собрал весь свой запас итальянских слов.
— Il vecchio pipistrello aspetta fuori alla porta[322].
— Come-e?[323] — Мирный шепот перешел в негодующее шипение.
Путник еще раз повторил, что «старая летучая мышь» ждет у двери. Изнутри донеслось шарканье шлепанцев, и в узком оконце появилась мраморно-бледная Пина — ее лицо и ночная рубашка казались высеченными из одного куска. Точно так же как черные волосы и грубый гребень, которым она их расчесывала, точно так же как и глаза девушки, смотревшие на путника отнюдь не ласково. (Уже достаточно рассвело, чтобы это заметить.)
— О Альберто! — Ее слова также прозвучали отнюдь не ласково. — La luna è oggi molto più magra, non è vero?[324] — Попытка путника облагородить свою операцию по «приокнению» болтовней о «старой летучей мыши» и о тощей луне не удалась; Пина даже не сочла нужным ответить «летучей мыши» на своем родном языке.
— Идите лечь постель. Я должен через двух часов уже восстать, Пина хочу спать.
— Разве Пина уже не перешла на «ты» со старым летучим мышонком?
— Иди ты лечь спать.
Ребристая ставня закрылась изнутри, и шепот собеседников походил теперь на шепот в церковной исповедальне.
— Non posso entrare?[325]
— Нет, иди в домой, иначе три прислуга от кухню, который спят рядом, просыпайсь.
— Если ты меня впустишь, девушки не проснутся. У тебя в комнате я буду вести себя тише, чем летучая мышь.
— Летай домой, pipistrello. Иди спайть к твоей сестра. — Ее шепот звучал сердито.
— Я сплю один.
— Не мой дело. Можешь спайть с твой красивый сестра, но может быть, commissario[326] Мавень это не очень нравится.
— О чем ты говоришь?
— Может быть, полиция отвозийт тебя в воскресенье в Самедан, потому что ты есть incestuoso. Потому что ты сделайть… Come si dice in tedesco[327]… Крово… Крово… смешение…
— Я — incestuoso! В жизни на меня не раз возводили напраслину, но это уж слишком. Кровосмешение! Ха-ха!
— Ты не смейсь так громко, иначе просыпайтсь прислуг от кухни.
Вот, стало быть, почему Пина бесится — кровосмешение! И путник-лунатик прошептал сквозь щели в ставнях:
— Я вовсе не сплю в комнате синьоры. Пойдем на почту, убедись сама. Dormo in un’altra camera, capisce. La signora[328] спит в отдельной комнате, и дверь у нее заперта. Даже если бы я хотел к ней проникнуть, то не смог бы. Клянусь тебе, что все так и есть.
Изнутри снова донеслось тиканье будильника — «тик-так», а потом шепот Пины — на этот раз не такой раздраженный.
— Ты клянешься, Альберто?
— Клянусь.
Ну и путник-лунатик! Подлый враль, впрочем, он хуже, чем враль.
Я услышал шарканье, шаги удалялись, потом послышались беспорядочные всплески воды, что там делала Пина впотьмах? Неужели, внезапно разбуженная, она стирала свои рубашки, которые забыла выстирать с вечера? И неужели после этого она опять ляжет в постель? Разве Пина не подала надежду «летучему мышонку» Требле?..
…Я вспомнил сон, который приснился мне в ночь, когда я вернулся домой, напившись пьяным вместе еде Коланой; в том сне фигурировал зверек, маленький зверек, на ощупь мягкий, легкоуязвимый и в то же время чрезвычайно ловкий…
…Разве Пина не подала «летучему мышонку», который хотел «приокииться», надежду на то, что она его в конце концов впустит? Я ждал. Путник-лунатик постепенно превращался в разморенного полуночника. В долине, слабо освещенной побледневшими ночными светилами, все еще царила ночь, а тем временем горы начали мало-помалу приобретать тот стальной голубовато-серый цвет, каким я любовался двадцать четыре часа назад с высоты перевала Юльер, то есть тогда, когда оказался в дураках, приняв свист сурков, предостерегающий свист сурков, черт-те знает за что. Тогда… Ие прошло еще и двадцати четырех часов, но это «тогда» стало необратимым; ведь тогда еще были живы и Генрик Куят, и бежавший из лагеря заключенный Тифенбруккер, и лесоторговец Ленц Цбраджен. Нет, сейчас нельзя об этом думать. А что я должен делать?.. Может быть, попытаться повиснуть вниз головой наподобие летучей мыши на веревке для белья, натянутой перед этим рядом дверей? Путник провел ногтями по ребрам деревянных ставен, изобразив нечто вроде арпеджио пианиссимо, словно арфист. Плеск воды в комнате Пины смолк, шарканье шлепанцев приблизилось, тихо отодвинулся засов, дверь с окошком открылась внутрь. «Летучая мышь» Требла юркнул в комнату.
Мгновенно я снова задвинул засов, морщась от въедливого запаха дешевого одеколона «Лаванда», и замер: при слабом свете побледневших звезд и серых предрассветных сумерек, проникавшем в комнату сквозь промежутки в ставнях, я сделал поистине сенсационное открытие. Конечно, все относительно, но в ту секунду для меня это открытие было сенсационным. Я обнаружил, что Пина стирала не белье, а так сказать, самое себя: она стояла передо мной голая; правда, о ней нельзя было сказать: «Пина была в чем мать родила», потому что на ногах у нее я заметил нечто вроде плетенных из лыка туфель. Сама она, видимо, осознала свою наготу лишь после того, как заметила мое удивление, хотя я и представлялся ей, наверно, бесплотной тенью. Пина быстро накинула на себя длинную домотканную ночную рубаху. Но было уже поздно. Я сделал свои наблю-дения, и немалую роль в них играла сравнительная анатомия.
Кто это? Вальтеллинская девушка Пина? Мне вдруг почудилось, что это юная Майтена Итурра-и-Аску, дочь президента Sociedad de los Estudios Vascos в Сан-Себастьяне, Майтена из Страны Басков, чей старший брат, знаменитый игрок в пелоту, стал солдатом-республиканцем и погиб во время наступления Франко на Астурию, а два других брата были расстреляны позже на Монте-Ургуль. Нет, и об этом сейчас не надо думать. Майтена-Майтена-Майтена. Так могло бы светиться тело молодой испанки, если бы я увидел ее обнаженной в предрассветные часы в башенном кабинете у Куята. Ведь ошибка, что ни говори, совершилась. Я остался в ее глазах бежавшим из концлагеря узником, который добровольно идет сражаться за почти безнадежное дело, за Republica Española[329], и благодаря заблуждению девушки я мог бы преодолеть ее сопротивление; тогда тело Майтены светилось бы так же, как светилось тело Пины, не успевшей накинуть на себя длинную ночную рубашку.
Нет, эта ночная рубашка не была рубашкой Майтены.
Пина наклонилась над узкой кроватью (кровать больше походила на тюремную койку), попыталась прибрать ее. Свет раннего утра, сочившийся сквозь щели в ребристых ставнях, создавал в комнате магически-нереальное освещение; казалось, на улице горела синяя кварцевая лампа или же сама комната была глубокой расселиной глетчера, куда проникали лучи солнца. Я начал раздеваться; после недавнего душа, с помощью которого я хотел снять с себя воспоминания о прошедшем понедельнике и о туннеле ужасов, кожа у меня еще слегка горела, поэтому я не ощутил холода в довольно прохладной комнате. Меня раздражало только тиканье пузатого будильника. В маленькой каморке это тиканье было прямо-таки оглушительным. Черт возьми, подумал я, как может Пина вообще спать при таком адском механическом шуме?