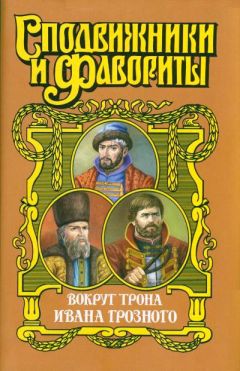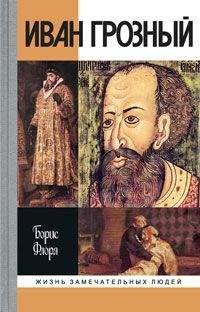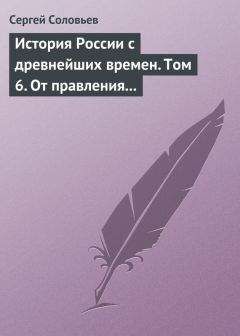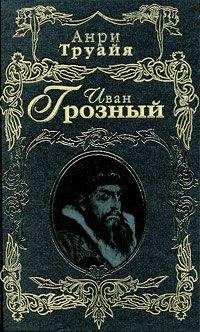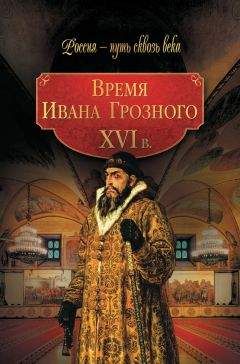Валерий Полуйко - Лета 7071
Малюта молчал… Махоня выпрямился, размотал с руки плеть, маханул ею несколько раз по воздуху, расправляя её и пробуя руку…
— Ну-к покажь-ка ему, Махонь, от чего наш брат мужик семь раз на году линяет, — снова крикнули из толпы.
— Да подюжей, подюжей, чтоб каки из него полезли!
— Батожье — создание божье, — спокойно, бесстрастно, с призывной смиренностью присказал кто-то — должно быть, монах или поп.
— Ей-ей, святой плеточкой да по окаянным телесам! — тут же подпряглись к смиренной притче, только не бесстрастно — яро, каверзно, глумливо…
— Скорбен я ноне, — как бы винясь, сказал в толпу Махоня. — Братца маво… — В носу у него опять захлюпало, он жалобно пересопелся, пережмурился, сдержал слезы, скорбно вздохнул: — Рука ослабла.
— Но-но, Махоня!.. Взбодрись-ста, рюма! Табе плотницких ноне карать! — прикрикнули на него из толпы — должно быть, мясницкие, собравшиеся поглазеть на расправу над плотницкими. — Взыщи на них, окаянных, Рышкин живот!
— Взыщу, братя, — привсхлипнув, пообещал Махоня.
Малюта сошел с помоста уже не так твердо, как взошел на него. Раскоряченно, грузно, с истомной медлительностью, как будто сама земля отягощала его ноги, переступал он через ступени и, казалось, не чаял дождаться их конца. Подьячий кинулся помочь ему, но Малюта зло оттолкнул его и, еще тяжелей вгрузая ногами в ступени, спустился на землю, стал, набычившийся, неподступный, мучительно силясь вдохнуть полной грудью… Вздымающиеся лопатки, казалось, сдирали с его спины и тянули вверх за собой взбухший, сукровичный пласт кожи, и боль заставляла его опускать лопатки. Но он все-таки превозмог боль, вдохнул, тягуче, надрывно, с яростной силой, как будто отнимал этот вдох у кого-то, и вдруг улыбнулся — мирно, облегченно, — и было это так неожиданно и страшно, как если бы вдруг улыбнулся мертвец.
Сава, скорбный, обникший, с гримасой обреченности на синюшно-бледном лице, поднес ему одежды и замер перед ним в каком-то жутком, исступленном восхищении.
— Вот и расквитал нас с тобой Махоня, — сказал Малюта, принимаясь надевать на себя одежду. — Осталось и тебе, чтоб ты на то ума себе впредь купил.
— В век тебя не забуду! — вышептал истово Сава.
— То уж блажь, — насупился Малюта. — Помни паче заповеди да царю не вини более. Не то быть тебе у меня на взыскании, а уж я из тебя непременно бебехи вытрушу.
— Оженюсь я, — сказал Сава уже без стыдливости, без смущения. — Коли быть мине еще на кресу 246… Дал бы бог! На свадьбу тебя покличу.
— Не кличь, не пойду, — отчужденно буркнул Малюта. — Я хоть породы не знатной, не жирной, да с чернью мне сябрувать, однако ж, непристойно.
— И то верно, — безобидно согласился Сава. — А вот жли вздумать хоромы рубить» кличь меня… Никого иного не кличь — меня, Саву, кличь! Срублю табе диво дивное, чево в век никому не рубил. Все бояре завидовать станут табе! За вступку твою я табе своей хитростью отплачу… коли ноне сдюжу Махоню.
— Сдюжишь… Нынче у него рука легка.
— Легка, — ухмыльнулся печально Сава. — Вон души не вышибет — в лавку вшибет. Кабыть мне твою силу… Впервой зрю такое! Да и люд, поглянь, попритих… Штоб вот так с-под Махони с полусотней вставать — не видывали такого еще на торгу.
4Фетинья две недели ходила в Кремль, к царскому дворцу, — выслеживала Малюту, чтоб поклониться ему, поблагодарить за Саву… Самое дорогое, что было у нее, — иконку Одигитрии в серебряном окладе с жемчугами и каменьями, которой ее благословила мать, выдавая замуж, понесла ему в дар. Готова была в ноги упасть и молить принять — так была переполнена благодарностью ее душа. Сава, которого она после торговой казни еле живого, с изодранной в клочья спиной, привезла к себе, сказал ей — из последних сил:
— Ну, баба, коли быть мине еще на кресу, пыдем с тобой под венец.
Тогда-то и вынула Фетинья иконку из киота… Две недели ходила с ней в Кремль и все ждала, все вглядывалась в каждого верхового и пешего, направлявшегося к царскому дворцу или из дворца, — надеялась встретить Савиного заступника, да все напрасно. Отчаялась уж, как вдруг, как раз к исходу второй недели, и увидала она Малюту. Она узнала его даже со спины… Он ехал верхом, в сторону Тимофеевской стрельницы, пересекая Дворцовую площадь.
Кинулась Фетинья вслед за ним что было духу… Догнала, забежала наперед, умоляюще прижала руки к груди — в руках замотанная в тряпицу иконка.
Малюта недовольно придержал коня, подозрительно обсмотрел Фетинью, недовольно спросил:
— Что тебе, женка?
— Боярин!.. — задышка прервала Фетинью. — Бога ради… погоди, боярин!
— На свадьбе я токмо боярин, — хмуро буркнул Малюта.
— Не изволь гневаться, добрый человек… Не по лести я, — чуть отдышавшись, заговорила Фетинья. — Звание твое мне неведомо, а для нас простых как не дьяк, не купец, так уже и боярин.
— Не лживь, женка, — по-прежнему недружелюбно сказал Малюта. — Все тебе ведомо… Иначе пошто бы за мной непременно тебе гнаться? Меня ты сторожила. Вон, на лице все написано.
— Тебя, добрый человек… Токмо тебя единого и сторожила.
Фетинья подступила поближе к Малюте, осторожно взялась рукой за стремя, словно хотела удержать.
Малюта недобро скосился на нее своим страшным бельмом, сурово выговорил:
— Коли вздумала просить вступиться за тебя — не проси, не вступлюсь. Любила ягоду, люби и оскомину. Блудница небось?! Вона в лицо-то как счастлива! 247 Иль муж у тебя разбойник?! Об нем надумалась просить?
— Вдовая я… — улыбнулась безобидно Фетинья. — Да благодаря богу и тебе, добрый человек, скоро опять замуж пойду. Суженый мой — Сава-то!.. Сава-плотник, за коего ты на торговой-то казне вступился.
— Вона чево?! — удивился Малюта, и с него как-то враз сошла вся хмурь и суровость. Он вдруг посмотрел на Фетинью с пробудившимся интересом, как будто что-то подтолкнуло его изнутри, как будто неожиданно для самого себя он увидел в ней что-то такое, что ему было нужно, что он искал и вдруг нашел. Но этот интерес, эта пристальность не были интересом и пристальностью его мужской позарливости или похоти. Это было что-то другое — какая-то тайная корысть, в которой не было его собственных мужских чувств.
— Жив Сава!.. Благодаря тебе, благодаря твоему заступничеству! За то и хочу тебе земно поклониться, да вот… — Фетинья поспешно размотала тряпицу, — прими от меня в дар… Одигитрию, матерь божию. — Фетинья протянула иконку Малюте. — С каменьями она, с жемчугами, в обкладке серебряной. Матушка моя благословила меня ею… А ведется она от прабабки моей. Уж как с век ей!
— С каменьями, говоришь, в серебряной обкладке? — Малюта смотрел не на иконку, а на Фетинью. — Что же не обменяла ее на деньги да не выкупила суженого? Ну как забили б его?
— Господи, продай я все, что у меня есть, вместе с кабаком да с иконкою сею, не собрать бы мне и половины того, что присудили ему на выкуп. Об таких деньгах только вздумаешь — земля из-под ног идет. Прими, добрый человек!.. — Фетинья даже на цыпочки поднялась, протягивая Малюте иконку. — Не во мзду — на счастье!
— Не приму, женка. И не думай, что я по доброй воле иль по грехам своим лег под плети. В долгу я был перед Савой твоим, вот и расчелся. Спина уж на мне подсыхать почала, скоро и памяти об твоем Саве не будет во мне.
— Господи, да в каком же долгу? — пораженная, отступилась от Малюты Фетинья.
— Об том тебе Сава расскажет, а не расскажет — не убудет тебя все едино. Знай свое бабье дело да радуйся, чему радуешься. — И вдруг совсем другим тоном — резко, и даже зло, и в то же время с какой-то укоризненной соблазнительностью высказал Фетинье то, о чем, должно быть, все это время думал, пустословя с ней: — Царей тебе ублажать, женка! А ты кволому, презренному быдлаку этакую красу отдаешь… Да еще радуешься!
— Бог с тобой, добрый человек, — и ужаснулась, и огорчилась Фетинья. — Что ты такое говоришь! Сир Сава, презрен, квол, да ведь люб он мне!
— Царей тебе ублажать — вот что я говорю, — уже помягче, со скрытым посулом повторил Малюта. — Запомни сие, женка, и побереги себя!
Малюта тронул коня, шагом поехал через площадь… Фетинья, смятенная, с чувством какой-то жестокой неотвратимости, ворвавшейся в ее судьбу, обреченно смотрела ему вслед, крепко прижимая к груди иконку — единственную свою защиту.
5— Государь!.. — Федоров потерялся от неожиданности, увидев в проеме открытой двери, ведущей из книгохранительницы в царские покои, Ивана. Он, видимо, уже давно вошел в книгохранительницу, где Федоров занимался чтением с царевичем Иваном, только не выдавал себя, наблюдая за ними со стороны, и, конечно же, слышал, как Федоров почтительно, но строго выговаривал заленившемуся царевичу, ставя ему в пример образованность и начитанность его предков, не только ближайших, но и далеких — дедов, и прадедов, и прапрадедов.