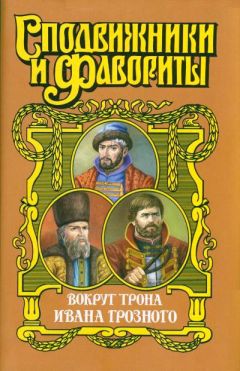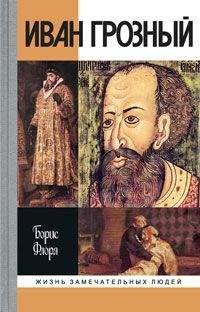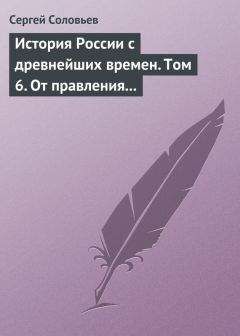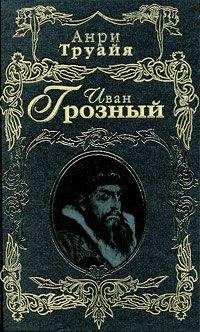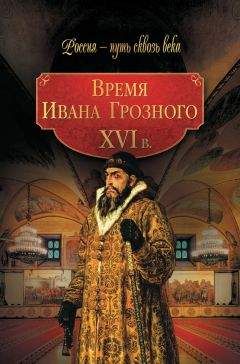Валерий Полуйко - Лета 7071
— Истинно, Москва без московитов — уже не Москва!
— А Русь без Москвы — уже не Русь!
— Ишь-ка, не Русь! Москвы вашей и в помине не было, коли Русь уж крепка стояла. И Псков наш стоял!
— Не зря речется: у Руси сердце в Волхове, а душа на Великой!
— Помянула баба свой девишник! Нынеча от того былья былого псковского — лишь вода во Пскове, да и то мутная.
— Зануздала вас Москва с вашим Волховом, приучила в своей упряжке ходить да и взбрыкивать не дает.
— Ярый конь не взбрыкивает, он удила рвет!
— И удил вам не порвать! Закатилась слава псковская! Откричали вы на своих вечах, отсамоволили… Нынеча надо всем — Москва! Она и сердце и голова Руси!
— Ничего, ничего, — заумно посмеивались псковичи. — Пскова бурна, и течет она в Великую!
3Веселый зыкастый подьячий, похожий больше на попа в своем длинном затасканном тегиляе, стоя на высоком дощатом помосте, устроенном рядом с Лобным местом, неторопливо, с острыми присказками (от себя!), читал мертвую грамоту на Ивашку Матренина, для которого уже ладили петлю на виселице, выгнувшейся над Лобным местом громадным, страшным щупальцем, высунувшимся, казалось, из самой преисподней.
Ивашка Матренин был зачинщиком большого бунта, случившегося в Пошехонье. Изголодавшиеся поселяне разграбили там монастырь, и игумена убили, и всю братию монастырскую поразогнали… Многим пошехонцам не сносить бы головы, не миновать расправы за такое дело, да Ивашка никого не выдал. Привезли его в Москву, закованного в цепи, еще зимой, и два месяца пытали в застенках Разбойного приказа, рвали ногти, жгли железом, ломали ребра, выжгли глаза, отрезали уши, но заставить выдать своих сообщников так и не смогли. Смертная казнь ему была уготована, не знали только, как казнить его: отрубить ли голову на торгу прилюдно, или тайно утопить в Москве-реке?
Пошел дьяк Шапкин, глава Разбойного приказа, вместе с Мстиславским к царю, стали говорить о Матренине, советовали не устраивать над ним прилюдной казни, чтобы не растравлять черни, мутившейся всю зиму и тоже чуть было не дошедшей до бунта.
— Средь тех, что сойдутся к Лобному месту, каждый третий — такой же Ивашка, — говорил убежденно Мстиславский.
— Верно, государь, — поддерживал его Шапкин. — Не изменник твой будет стоять перед ними, не Шишкин да Фуников, которых ты надысь предал конечной. Тех они сами чуть было не в ошметки… А сей для них — что и сами они! Не разбойник он для них — страдалец! Паче уж тайно с ним порешить. Тайно, государь, — просил Шапкин. — Для пущего спокою.
Не послушал их Иван, повелел повесить Матренина, повесить прилюдно, на торгу, и сам посулился выехать посмотреть, как удавят его.
И выполнил свой посул…
Неделю назад тут же, на торгу, казнили Фуникова и Шишкина. Иван всем боярам велел быть на этой казни, но сам не приехал, хотя, казалось, куда, как ни на эту казнь, быстрей всего и приехать ему… Ан нет, мужик-бунтарь оказался для него важней.
…Подьячий уже дочитывал мертвую грамоту, когда из ворот Фроловской стрельницы выехали несколько всадников и остановились на горбине перекинутого через ров моста. В толпе, окружавшей Лобное место и помост, их сразу заметили и сразу узнали в одном из них царя. Тягучий, приглушенный шум потек по толпе; дрогнуло, заколыхалось крутое месиво рук, спин, голов, ощерились тревожной настороженностью лица, отсвечивавшие жухлой белизной, и в растерянных, метушливых глазах, стремившихся теперь охватить все: царя, несчастного пошехонца, в угрюмой беспомощности от своей слепоты стоящего на Лобном месте, подьячего, вычитывающего ему вины, и виселицу, и изготовившихся палачей, черно проступил страх, и отчаянье, и бессилие, но было в этих глазах вместе со страхом, с отчаяньем, с бессилием и другое — суровая, закоренелая, злобная непокорность, поколебать которую в них не мог даже вид этого обезображенного, обреченного бунтаря.
Подьячий, стоявший спиной к Кремлю, почуял, однако, по волнению толпы, что из Кремля кто-то выехал. Обернулся, узнал царя, каверзно присказал:
— Вот и государь честь бунтовщику оказал! — и погромче, поядовитее — в толпу: — Да и вы не святы, анафемы! Будет и вам тож! Зрите!
— Ты дело чти!.. коль поставлен. Возгря боярская! — злобно выкресалось из толпы.
— Можить-ти, ему помилка в сей час от государя?! — выкрикнул еще кто-то — помягче, с надеждой…
— Можить-ти… — с издевательской серьезностью протянул подьячий. — Можить-ти, и в соболя обрядят и красными медами напоят!! Откель мне ведать-ти?!
Подьячий глумливо пощерился в толпу, с показной сосредоточенностью отвернул свитой край грамоты, распевно, густо, в полную силу потянул из себя:
— …И за ту татьбу великую, и за разбой, что бысть учинен на Пошехонье в Адриановой пустыни, и за убиение до конца живота святого старца игумена Адриана… приговорен Ивашка, зовомый Матренин, начальник всей той лютой смуте разбойной, и татьбе, и душегубству… по царевым и великого князя указным грамотам о татебных делах, как в них писан суд о татьбе и разбое… к конечной казни — к повешению за голову. Висеть ему до лютого смраду, после тело кинуть в яму за городом без погребения.
Дочитав грамоту, подьячий пошел с ней к Лобному месту, туда, где торчал из земли тонкий железный шесток, и нанизал на него грамоту. Таков был обычай: мертвые грамоты всегда оставлялись тут же, на месте казни, нанизывались на поставленный шесток, и каждый, кому ни заблагорассудится, мог после казни и посмотреть их, и почитать, коль был грамотен. Правда, если грамота с обратной стороны была чистой, она недолго торчала на шестке: площадные подьячие, эти писаря простого люда и ходоки по всем их делам, тут же прибирали ее к рукам. Бумага была дорога! Привозная! Простолюдину, затевавшему судебное дело, чистый лист бумаги нередко стоил дороже судебных пошлин. Потому-то нередко челобитные или иски каких-нибудь бедолажных Ивашек иль Прошек и шли в суды или приказы, писанные на обороте мертвых грамот.
Ото рва, сквозь толпу, на кауром аргамаке (недавний подарок царя за усердную службу — за поимку Фуникова и Шишкина в первую очередь!) стремительно пробивался Малюта, разметывал людишек нагайкой, сшибал конем… В минуту пробился к Лобному месту. Выкинулся из седла, бросил поводья ближнему стрельцу, надвинулся на подьячего:
— Пошто мешкаете?
— Все по чину, Григорья Лукьяныч, — лепетнул подьячий. Он уже знал нового царского любимца и особина, видел его на пытках в Разбойном приказе, когда там пытали Фуникова и Шишкина, еще больше слышал о нем…
— Коль по чину, чево же душа мрет?
— …
— Душа такая! — сверкнув бельмом, ответил за подьячего Малюта и быстро поднялся по ступеням на Лобное место.
Подьячий судорожной припрыжкой вскочил вслед за ним.
— Экие колупаи 244… Царя вконец истомили. Кончайте разбойника!
Палачи подхватили пошехонца, подвели к выпрометной скамье. Матренин не видел ее, но почувствовал, понял, что стоит около нее и что остался ему последний шаг — на эту скамью.
Он освобожденно вздохнул полной грудью, поднял лицо вверх, словно показывал небу свою обезображенность, и медленно, в какой-то блаженно-жутковатой отрешенности осенил себя крестом. Потом нащупал ногой выпрометную скамью и, подсаженный палачами, осторожно поднялся на нее. Один из палачей проворно накинул на него петлю, притянул ее…
Матренин вдруг вскинул неистово руки и, сдавленный веревкой, глуховато, с хрипотцой выкрикнул — как вырвал из себя душу, чтобы она не погибла через мгновение вместе с телом:
— Народ мой!.. Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили! Так вещает пророк Исайя! Внимайте ему!.. Внимайте пророку Исайе!
Палачи на минуту растерялись: должно быть, их смутил помянутый пророк Исайя. Они опешенно поглядывали то на Малюту, то на Матренина, то на толпу, сурово и молчаливо внимавшую матренинскому завещанию.
Как непохожа была сейчас эта толпа на ту, которая неделю назад, на этом же самом месте, не дав даже взойти на Лобное место, сама, без палачей, растерзала государевых изменников — Фуникова и Шишкина, и пришлось палачам рубить головы уже трупам.
Тогда она была яростной, негодующей, жаждущей возмездия, и какой-то могучей и страшной, как карающая рука самой Руси. Теперь — как стоящая на пытке, с закушенной в мучительной изнеможенности губой.
— Внимайте пророку Исайе!
Малюта свирепо кинулся к виселице, свирепо оттолкнул палачей, свирепо вырвал из-под ног Матренина выпрометную скамью и так же свирепо, с невымещенностью, густо плюнул себе под ноги.
Тело Матренина дернулось — раз, другой, и, уже мертвое, вдруг повернулось на раскрутившейся веревке лицом к Малюте, как будто смерть решила показать ему свой страшный лик. Малюта повернул тело спиной к себе, но веревка вновь развернула его… Страшное лицо Матренина вновь нависло над Малютой — и что-то ужаснуло его в нем. Он отступил — на шаг, потом еще, но тут же совладал с собой. Сходя с Лобного места, сам оглянулся на тело Матренина, помедлил, словно испытывал себя, потом бросил быстрый взгляд в сторону Фроловской стрельницы — на мосту перед ней уже не было царя.