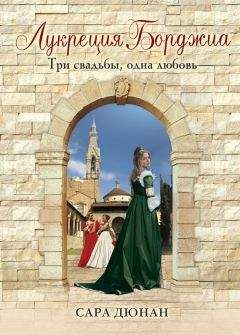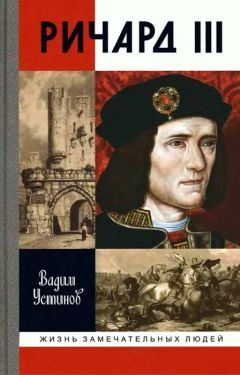Элизабет Гилберт - Происхождение всех вещей
— Что ж… — замялась Альма, — я вовсе не это хотела сказать.
— Но мисс Уиттакер, — промолвил Уоллес, и голос его заискрился волнением, — это же значит, что нас было трое!
На секунду Альма не смогла даже дышать.
На мгновение она перенеслась домой, в «Белые акры», в ясный солнечный день в 1819 году — в тот самый день, когда они с Пруденс впервые встретили Ретту Сноу. Они были так молоды, и небо было голубым, а жизнь пока еще не причинила никому из них ужасной боли. Ретта тогда сказала, взглянув на Альму своими сияющими, живыми глазами: «Так значит, теперь нас трое! Какая удача!»
Какую песенку Ретта тогда про них сочинила?
Мы скрипка, вилка и ложка,
Танцуем с луной в окошке.
Мечтаешь у нас украсть поцелуй?
Тогда поспеши и с нами станцуй!
Когда она сразу не ответила, Уоллес подошел и сел с ней рядом.
— Мисс Уиттакер, — почти шепотом проговорил он. — Вы понимаете? Нас было трое!
— Да, мистер Уоллес. Кажется, это так.
— Какое невероятное совпадение.
— Мне тоже так всегда казалось.
Уоллес некоторое время смотрел в одну точку, не в силах вымолвить ни слова.
Наконец он спросил:
— Кому еще об этом известно? Кто может за вас поручиться?
— Только мой дядя Дис.
— И где же ваш дядя Дис?
— Он умер, знаете ли, — сказала Альма и невольно рассмеялась. Дис бы хотел, чтобы она ответила именно так. О, как же ей не хватало этого крепкого старого голландца! Как бы ему понравился этот момент!
— Почему вы так и не опубликовали свою работу? — спросил Уоллес.
— Потому что она была недостаточно хороша.
— Чепуха! В ней есть все. Вся теория как на ладони. И безусловно, она лучше проработана, чем то абсурдное письмо, которое я в лихорадке написал Дарвину в пятьдесят восьмом. Нам стоит опубликовать ее сейчас.
— Нет. — Альма была непреклонна. — Публиковать ее нет нужды. Честно, мне самой это не нужно. Мне достаточно того, что вы только что сказали, — что нас было трое. Мне этого достаточно. Вы только что осчастливили старуху.
— Но мы могли бы опубликовать работу вместе, — упорствовал Уоллес. — Я бы представил ее от вашего имени…
Альма накрыла его руку своей ладонью.
— Нет, — твердо проговорила она. — Прошу, поверьте мне. В этом нет необходимости.
Некоторое время они сидели в молчании.
— Могу я тогда хотя бы спросить, почему вы решили не публиковать работу в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году? — промолвил наконец Уоллес, нарушив тишину.
— Я не опубликовала ее, потому что мне казалось, что в теории кое-чего не хватает. И знаете, мистер Уоллес, я до сих пор считаю, что в ней кое-чего не хватает.
— И чего же именно?
— Убедительного обоснования человеческого альтруизма и самопожертвования, — сказала старая женщина.
Альма не знала, стоит ли пускаться в более пространные рассуждения. Сомневалась, хватит ли у нее энергии, чтобы снова окунуться в анализ этой огромной проблемы и всех ее аспектов — чтобы поведать ему о своей сестре Пруденс и сиротках; о женщинах, спасающих младенцев из каналов, и мужчинах, бросающихся в огонь, чтобы спасти жизнь незнакомым людям; о голодающих узниках, которые делились последними крохами пищи с другими голодающими узниками, и о миссионерах, которые прощали распутников, и о медсестрах, заботившихся об умалишенных, и о людях, любивших собак, которых никто больше не любил, и обо всем, что лежало за пределами понимания.
Но оказалось, вдаваться в подробности не было нужды. Уоллес, кажется, понял ее сразу.
— У меня были такие же сомнения, — призналсся он.
— Я знаю, что они были у вас, — кивнула Альма, — но мне всегда было интересно — были ли они у Дарвина?
— Не думаю, — сказал Уоллес. Но потом замолчал, обдумывая свой ответ. — Хотя не стоит говорить с такой уверенностью. Это неуважительно по отношению к нему, и ему бы не понравилось, что я высказываюсь от его имени. Он был так осторожен, знаете, и никогда не делал никаких предположений, прежде чем не был в них полностью уверен. И этим он от меня отличался.
— Отличался от вас, — проговорила Альма, — но не от меня.
— Но не от вас, нет.
— Вам нравился Дарвин? — спросила Альма. — Мне всегда было любопытно.
— О да, — отвечал Уоллес. — Очень. Он был лучшим из людей. Думаю даже, что он был самым великим человеком нашей эпохи, а может, даже и многих эпох. Немногие могли бы с ним сравниться. Кого можно поставить в один ряд с ним? Есть Аристотель. Есть Коперник. Есть Галилей. Есть Ньютон. И есть Дарвин.
— Значит, вы никогда не были на него в обиде? — спросила Альма.
— Боже, конечно же нет, мисс Уиттакер. Это всегда была его теория. Лишь у него одного хватило бы духовной мощи, чтобы ее создать. Он был Вергилием нашего поколения, показавшим нам рай, ад и чистилище. Он был нашим Божественным проводником.
— Мне тоже всегда так казалось, — проговорила Альма.
— Вот что я вам скажу, мисс Уиттакер. Меня ничуть не расстроило то, что вы раньше меня додумались до теории естественного отбора, но меня крайне опечалило бы, если бы вы додумались до нее раньше Дарвина. Ведь я так им восхищаюсь. Мне бы не хотелось, чтобы он лишился своего пьедестала.
— Я не собираюсь свергать его с пьедестала, молодой человек, — мягко заметила Альма. — Вы зря волнуетесь.
Уоллес рассмеялся:
— Мне очень по душе, мисс Уиттакер, что вы меня зовете молодым человеком. Для юноши, разменявшего седьмой десяток, это лучший комплимент.
— Из уст женщины, разменявшей девятый десяток, это не комплимент, а правда.
Он действительно казался ей совсем юным. Любопытно, ведь лучшие годы своей жизни она провела в компании стариков. Все эти будоражащие интеллект ужины ее детства, когда она сидела за столом в компании бесконечно сменявших друг друга великих умов. Годы в «Белых акрах», проведенные с отцом за долгими полночными разговорами о ботанике. Время на Таити в компании доброго, благородного преподобного Фрэнсиса Уэллса. Пять счастливых лет в Амстердаме с дядей Дисом, прежде чем он умер. Но сейчас она сама была такой старой, что стариков больше не осталось! Сейчас она сидела в компании согбенного седобородого Уоллеса, который для нее был не более чем шестидесятилетним ребенком, и рядом с ним сама казалась древней черепахой.
— Знаете, что я думаю, мисс Уиттакер? По поводу вашего вопроса о происхождении людского сострадания и самопожертвования? Мне кажется, эволюция объясняет почти все, что нас окружает, и я, безусловно, верю, что она объясняет абсолютно все, происходящее в природном мире. Но не думаю, что наше уникальное человеческое сознание может быть объяснено одной лишь эволюцией. Видите ли, в интеллекте и эмоциях, наделенных столь острой чувствительностью, нет никакой эволюционной необходимости. Нет практической необходимости иметь такой ум, как у нас. Нам не нужен ум, способный играть в шахматы, мисс Уиттакер. Не нужен ум, способный придумывать религии и спорить о нашем же происхождении. Не нужен ум, вынуждающий нас рыдать, слушая оперу. Не нужна нам и опера, раз уж на то пошло, или наука, или искусство. Нам не нужны этика, мораль, достоинство, самопожертвование. Не нужны привязанность и любовь — уж точно не в той степени, в которой мы их испытываем. Наши эмоции скорее обременяют нас, ведь именно из-за них мы испытываем такие невероятные муки. Нам не нужно быть философами. Все это не продиктовано эволюционной необходимостью. Поэтому я и не верю в то, что этот ум появился у нас в результате естественного отбора, хотя верю, что наше тело и большинство наших способностей произошли именно таким путем. А знаете, откуда, по моему мнению, у нас этот удивительный ум?
— Знаю, мистер Уоллес, — тихо проговорила Альма, — ведь я читала все ваши работы.
— Я скажу вам, откуда у нас этот удивительный ум и душа, мисс Уиттакер, — продолжал он, будто ее и не слышал. — Они есть у нас, потому что во Вселенной существует высшее сознание, которое желает вступить с нами в контакт. Это высшее сознание желает быть познанным. Оно взывает к нам. Оно притягивает нас все ближе к себе и одаривает нас удивительным умом, чтобы мы попытались его познать. Оно хочет, чтобы мы его отыскали. Больше всего оно хочет слияния с нами.
— Я знаю, во что вы верите, — повторила Альма, снова похлопывая его по руке, — и мне кажется, что это очень красивая идея, мистер Уоллес.
— Но считаете ли вы, что я прав?
— Не могу ответить, — проговорила Альма, — но ваша теория красива. И по сравнению с другими теориями она является наиболее убедительным ответом на мой вопрос. Но все же вы пытаетесь разрешить загадку другой загадкой, и я бы не назвала это наукой, хотя это можно назвать поэзией. К сожалению, как и ваш друг мистер Дарвин, я по-прежнему жажду услышать более определенный ответ. Увы, такова моя природа. Однако мистер Лайель с вами бы согласился. Он утверждал, что лишь Божественная сущность могла бы создать человеческий ум. И моему мужу, несомненно, ваша идея бы понравилась. Амброуз верил в такие вещи. И жаждал слияния, о котором вы говорите, — слияния с высшим сознанием. Он умер в поисках этого слияния.