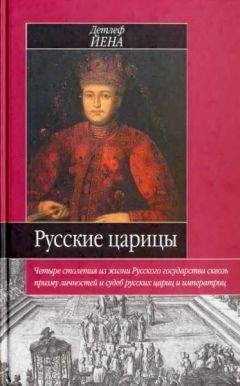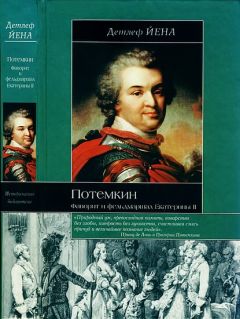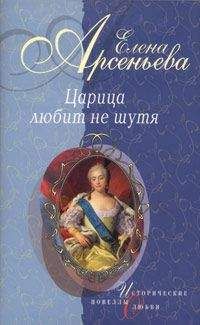Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
Ростовцев тоже был спиритом и мистиком. Однако это не мешало ему бороться за земные блага. Возможно, он считал, что тень человека на том свете получает в единоличное пользование тени тех вещей, которыми он владел на Земле. Было похоже на это. А может, он просто думал, что другие люди как себе хотят, а он, Яков Ростовцев, никогда не умрет. И в самом деле ему было в то время только пятьдесят шесть лет и минуло всего тридцать три года, как в сказке, с того времени, когда он изменил декабристам. Он успел стать мерзавцем в двадцать три года, когда большинство не успевает еще стать даже просто людьми, а не то что утратить честь и пристойность. И он знал, что преданные им погибли, как и тысячи других (честные чаще всего мало живут), а он существует.
Вежа ворчал:
– Старая шлюха! Как он в глаза преданных им смотрит?
Но «старой шлюхе» не было никакого дела до того, что о нем думают. Он торопился хватать. Хватать как только можно, сколько станет сил. Хватать, даже оставляя после себя голую землю. Когда начались заседания редакционных комиссий, ему оставалось жить девять месяцев и двадцать семь дней. Но он греб и драл, очень напоминая того человека, над которым смеялся переодетый ангел из сказки, потому что человек выбирал себе на рынке самые крепкие, по крайней мере на год, туфли, не зная, что завтра утром ему обуют их, кладя в гроб. Умер Ростовцев в 1860 году, натворив перед этим сколько мог зла.
На этом, собственно говоря, он мог бы и кончить, как все люди на этой земле, однако воинственный «старец» не угомонился и после смерти, пытаясь, вопреки всем законам естества, и по ту сторону могильной плиты влиять на дела осиротевшей без него земли.
Эта не совсем обычная и под корень подсекающая зловредный материализм история произошла в начале января 1861 года. Манифеста об освобождении еще не было, и, понятно, покойник еще блуждал по своей квартире, обеспокоенный, как же все это обойдется без него.
В бывшей квартире Ростовцева жил генерал-адъютант Путята, тоже спирит, человек, который вызывал дьявола и угрожал ему, что в случае идейных разногласий он пожалуется на него обер-прокурору синода и комитету министров.
По совместительству с мистикой этот человек занимался еще и воспитанием юношества в духе преданности родине и престолу, потому что занимал пост начальника штаба военно-учебных заведений, и, таким образом, военная мощь империи частично зависела от привидений, а призраки, которые населяли комнаты генерала, – от его служения военному могуществу государства, а за это служение Путята получал целиком материализованную пенсию и не символические чины и ордена. Таким образом, Путята на практике решил вопрос единства материального и идеального в природе.
В начале января в комнатах Путяты слышались странные звуки. На вопрос: «Не Яков ли Иванович?» – раздался троекратный стук в дверь и по комнатам повеяло могильным холодом.
Затем магический карандаш дал на заданные вопросы следующие ответы.
– Что тебе нужно здесь?
– Огонь, – ответил оптимистически настроенный мертвец.
– Для чего?
Склонный к решительным действиям, воинственный покойник ответил:
– Воевать!!
– Кому воевать?
– Министрам.
Видимо, привидение узнало в нематериальном мире о чем-то позорящем его честь, чего оно не знало на земле.
– С кем?
– С коварным князем Константином.
– Какой конец?
– Вседержитель! Могила!
Встревоженный и потрясенный до глубины души, Путята сделал доклад об этом Муравьеву Вешателю, в то время министру государственных имуществ, а тот – графу Адлербергу, министру императорского двора и уделов, после чего они втроем поделились этой астральной беседой, конечно же, с шефом жандармов и начальником Третьего отделения Долгоруковым, тем более что он был незаурядным знатоком потустороннего мира еще со времени дела Селецкого.[149] Вначале думали дать делу ход, но Ростовцев был мертв, а флюиды вещь ирреальная, и посадить их никуда нельзя. Потому раздумали.
А поскольку сигналы были тревожные, все четверо впали в панику и длительное время находились в растерянности: что же делать?
…Но до кончины Ростовцева еще оставалось время, а редакционные комиссии не соглашались с ним до конца. Без земли освобождать было нельзя, потому что «мужик» – это не только его личная, никому не нужная жизнь, не только его «быт», но еще и платежи государственных повинностей. Кроме того, учитывали, что вольному нищему не нужно искать топор в сенях, а косу – на другом конце своего покоса, где вчера забыл ее. И то и другое было всегда при нем.
Решено было земли дать больше, а повинности уменьшить, хотя и не настолько, как об этом вопили Могилевская, Тверская и еще одна-две губернии. Нельзя было предположить, что безземельный много отдаст бывшему господину, – казна государства была опустошена. Вместо вотчинной власти было демократично предложено крестьянское управление… под надзором полицейских органов.
Комиссии работали пять месяцев и закончили черновой проект, но сразу после этого начались возня и визг «обиженных». В Петербург летели замечания от тамбовских, тульских и московских помещиков. Царя заклинали не доверять «либералишкам». Депутаты от губернских комитетов поехали в столицу производить изменения.
– Я туда не поеду, – сказал дед. – Заранее скажу, что будет. Мягкотелые начнут добиваться неотложного выкупа, легкого для них, суда и публичности, а государь, в неописуемом своем милосердии и вниманиии к тем, кто любит престол, покажет им фигу.
Как в воду глядел. Действительно, на либеральном тверском «адресе пятерых», «ни с чем не сообразном и дерзком до крайности», было начертано государем «замечание авторам» за «неправильные и неуместные свои домогательства».
Либералы Москвы просили о маленьком представительстве и получили в ответ лишь три слова:
– Ишь чего захотели.
Замечания комиссий – даже эти замечания! – сочли слишком левыми и выправили.
Но на практике не было предоставлено и этого. Сразу после того, как Ростовцев направился в свое, такое беспокойное для всех, загробное путешествие, на его место сел министр юстиции граф Панин, тоже спирит, и поддержал крайних «правых». Нормы земельных наделов уменьшены, повинности – возросли.
* * *Алесь лазил по лестницам, мосткам и котельным сахарного завода. В это время – в начале апреля – завод почти не работал. Лишь в одном из цехов шла обработка заготовленного с осени полуфабриката. Сделали запас, чтоб не было больших простоев.
Производили кристаллизацию и пробелку сахара. Алесь шел вдоль ряда, осматривая жестяные и глиняные пробелочные формы.
– Сколько людей работает, когда трут свеклу?
– В двух сменах мужчин-чернорабочих двадцать пять, женщин – около двухсот, – ответил красный, как помидор, седоусый сахаровар-механик из Гамбурга.
– Ну вот, а теперь пятьдесят, – сказал Алесь. – Почти на четверть сокращена сезонность, господин Лихтман. А вы возражали против полуфабрикатов.
– Я и теперь возражаю, – сказал немец. – Сахар худшего качества.
– А сколько свеклы пропадает во время заготовительных работ? Ногами по ней ходят, гниет она, в мелисе повышен процент сахара. И потом… пусть хуже качество. Вы имеете пенсию круглый год, и вам следовало бы хоть раз подумать, что чувствует сезонник. Пятьдесят человек получают свои деньги в начале апреля, словно это десятое октября, начало полной загрузки сахарного завода.
Он почти бегал пыльными переходами, шмыгал в люки, спускался в котельные, где красные, как гномы, кочегары махали шуфлями. В котельных свистел пар, мелко дрожали лоснящиеся от масла цилиндры.
…Все, кажется, ладилось. Закончат отбелку – надо начинать ремонт этого завода, расширить другой сахарный завод, установить в нем машины и оборудование, купленное в Англии и Берлине, построить отдельные здания еще на два паровых котла.
Выбицкий, немец и мастера едва поспевали за ним. Мастеров на этом заводе было пять, все белорусы – механик, кузнец, слесарь, медник и столяр.
– Три гидравлических пресса, – говорил Алесь. – Три, которые требовали ремонта. Механик!
Механик был похож на корягу: тупой с виду, страшный мужик. Так все и считали. Но Загорский однажды видел, как он, проверяя колосники, один в котельной, стоял, опершись на шуфель, и, залитый багровым сиянием, пел: «Не для меня она, весна, не для меня Днепр разольется». Пел красивым, душевным тенором.
– Маленький, с шестидюймовым пистоном, отремонтировали, – сказал механик. – Два больших, двенадцатидюймовых, – вот-вот…
Алесь иногда удивлялся, почему это большинство людей словно стесняется говорить о деньгах и своем отношении к ним.
Хозяйство – пожалуйста, политика, искусство, любая холера – хоть сейчас. А как деньги – стоп!