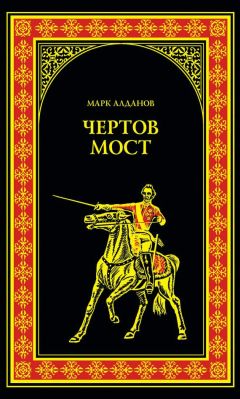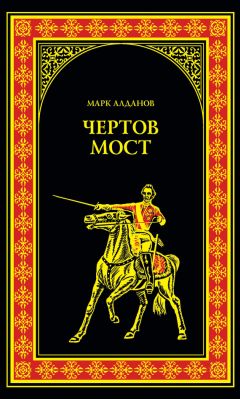Тулепберген Каипбергенов - Сказание о Маман-бие
Маман, с искаженным лицом, встал перед аксакалами, не давая никому подойти к берегу Кок-Узяка. А толпа перед ним росла. Пораженные ужасом люди теснились, совсем забыв о младенце. Но не забыл о нем Маман-бий. С лицом, посиневшим, как воды Кок-Узяка, он подошел к ребенку. Ударившийся мягким темечком о землю, младенец был мертв, но Маман, не видя этого, бережно поднял маленькое тельце и нежно прижал к груди, бормоча: «Не успев взглянуть на свет божий, чем провинился ты перед людьми, дитя мое, мечта моя, сиротинка моя? Беспомощный, как и народ мой несчастный, смиришься ты перед слепою судьбой. Но нет, нет, твоя жизнь впереди! Мы с тобой, верю, доживем еще до светлых дней… Я жду, и ты расти и жди… Я, старый, живу и жду хорошего, будущего, и ты, и ты жди…»
И, не мысля о том, что можно доверить хоть кому-нибудь на свете страшную тайну усопших, Маман себя, себя одного ощущал хранителем и виновником этой тайны, носителем правды жестокой, безобразной, невероятной. Он предстал перед народом с мертвым младенцем на руках, с искаженным нечеловеческой мукой пепельно-серым лицом, с налитыми кровью глазами. Густые седеющие волосы дыбом стояли над его высоко поднятой головой. И люди решили, что он обезумел. Никто не смел слова молвить или приблизиться к нему. Стояли перед ним толпой, немо и недвижно. И только Есим-бий осмелился сказать:
— Выжил ты из ума, беркут с поломанными крыльями! — И все услышали его дребезжащий старческий голос. — Неудачами своими разъяренный, сорвал зло на невинных, погубил преданную тебе семью, с радостью на родину воротившуюся. А ведь к тебе они шли, на тебя уповали! Воистину безумный ты, сам против себя восставший! Своими руками начал ты истреблять народ свой, об умножении которого сам же заботиться призывал! — Безмолвно кинулся Нурабулла к коновязи, отвязал своего ишака, посадил на него двух своих сыновей — близнецов, сам вскочил позади мальчиков и, нахлестывая ишака, уехал.
— Давайте, поехали! — крикнул Бегдулла Чернобородый своих аульчан. — От человека, ума лишившегося, добра ожидать не приходится!
— Маман с ума сошел… Маман обезумел., бий ума лишился… — зашелестели в толпе.
— Я-то сразу понял, что бий спятил, когда он единственного коня своего зарезал! — хвастливо молвил до пояса голый рыбак в штанах, подвязанных веревкой. Жаксылык, эй, эй, Жаксылык! — Топивший очаг перед котлом юноша бежал к толпе с перемазанным сажей лицом. — Глянь! Отец твой воротился, а сумасшедший этот Маман-бий его зарубил!
В недоумении остановившийся перед толпой, Жаксылык стремглав бросился назад, выхватил пылающую головешку из огня и сунул ее под камышовую дверку Мамановой юрты. Огонь змейкой скользнул вверх, и в этот миг снова поднялся с моря сильный, упругий ветер, юрта вспыхнула, как огромный костер, с треском запылали камышовые циновки, гудело желтое пламя, увитое черным дымом.
А ничего не понявшая Багдагуль металась вокруг, голосила:
— Люди-и! Воды! Воды! Во-о-ды-ы-ы!
И тут появился незнакомый всадник на неоседланном коне:
— Не говорите, что не слыхали! Не говорите, что не видали! Слушайте повеление хана нашего, — вопил он. — Маман — богоотступник! Маман — кяфир неверный! Мусульмане, бегите от него! Проклятие на нем навеки нерушимое! Мусульмане, бегите от Мамана…
Никому и в голову не пришло, что это посланец коварного Авез-ходжи, ловко воспользовавшегося всеобщей смутой. Люди постояли, разинув рты, в недоумении, и бросились врассыпную. Юрта догорала, треща и шипя, — некому было остановить Жаксылыка, некому помочь несчастной Багдагуль. Как вкопанный застыл над рекой пораженный новой бедой Маман-бий: «Что еще за бедствие разразилось надо мной? Чем я еще про винился?»
С широко открытыми глазами на обожженном солнцем лице, стоял Маман, неподвижный, как каменный идол, и упругий ветер с моря играл, развевая полы его багрово-красного халата, все дальше унося кувыркающуюся в воздухе черную шапку — каракалпак.
Вдруг посиневшие губы Мамана шевельнулись:
— Эй, люди, дорогие мои люди, родные! Не верьте, что я безумный!.. Не расходитесь!.. Не бегите от меня! — Но слабый голос его подхватил и унес ветер, а Маман продолжал взывать в пространство: — Не убегайте!.. Объединяйтесь!.. Верьте мне… придет народ братский, укроет нас полами большого халата своего от врагов… Протянет руку помощи…
Но некому было слушать Мамана. Несколько бедняков, оставшихся верными своему бию, ссутулившись сидели там и сям на земле, посматривая испуганными глазами то на Мамана, то на бегущих прочь людей.
— Будь ты проклят, беспощадный, неправедный бог на холодном своем небе! — крикнул Маман, воздевая вверх окровавленные кулаки. — За что сыплешь ты беду на неповинные головы несчастного народа моего? Если и вправду ты существуешь, то не я, а ты, слышишь, ты — обезумел!
* * *После горестных этих событий не было человека, кто сказал бы: «Я видел Мамана» или «Я знаю, где он». Прошел слух, будто он утонул в реке; говорили люди и другое: что находится он якобы на острове, посреди Арала лежащем, где из отбившихся родов своих каракалпаков собирает войско против Хивы. Люди говорили, что несчастная Багдагуль, куда исчез ее муж не зная, с горя ума лишилась, отыскала свой старый топор и побежала по берегу Кок-Узяка сводить свои счеты с богом. И ее тоже больше никто не видел.
Года шли за годами. Молодой Айдос пошел в гору: из рук самого пресветлого хана хивинского получил титул «бала-бия», бия-мальчика. Сначала послушно следовал он за Есенгельды-мехремом, а там с ним поравнялся, соперничать стал. То гремела окрест слава Есенгельды-мехрема, то верх брал бала-бий. Оба, каждый по себе, в Хиву со свитой ходили, все больше погружаясь в пыль исламских интриг. Мешалась эта пыль со слезами народными, грязной пеленой застилала людям глаза. Путались большие дороги, проложенные мирным степным народом в новом краю, блуждали люди, не находя прямого пути. Забываться стали дела и даже самое имя мудрого большого бия Мамана.
И вот в один из теплых летних дней рыбаки, вязавшие камышовые плоты свои на берегу моря, увидели, что наперерез огромным шумным волнам из тумана морского выходят два невиданных огромных плота, каждый величиной с большую восьмикрылую юрту. Плоты эти пристали к малому островку в устье Аму-дарьи, там, где, ошибаясь, кипят пресные воды реки и соленые волны моря, еще не успев смешаться. С плотов сошли два человека, одетые по-русски, в грубых башмаках с медными пряжками, в коротких плисовых штанах, цветных камзолах, подобных некогда жалованному Маману начальством в Оренбурге, и в темных сюртуках с широкими обшлагами. На головах приезжих были черные шапки.
Рыбаки стояли, испуганные невиданным чудом, и глазели, раскрыв рты, в ожидании новой напасти. Один, посмелее, подошел к самой кромке воды, пристально всмотревшись в приезжих, отчаянно завопил: «Оу, да это же сам большой бий!» — и, рыдая, полез в воду. А за ним, сталкивая с берега свои камышовые плоты, с криком и плачем двинулись к островку и все рыбаки.
Собачью жизнь вели они, ловя рыбу на хлипких своих камышовых плотах, связанных непрочной бечевой из куги, не смея отойти далеко от берега, и все ж подчас находя безвременную гибель в своенравной стихии Арала.
Растроганный Маман-бий пошел им навстречу, здороваясь и обнимаясь с каждым.
— Ну, вот мы и опять с вами вместе, милые мои! Недаром я столько лет пропадал, снова ездил в русское царство. Жаль, опять воюет русский царь с султаном турецким. Но как только кончится война, и про нас вспомнят, и будет у нас все хорошо. А пока принимайте, милые мои, посланца народа русского. — И бий положил руку на плечо рыжеволосого человека с большими крепкими руками. — Это младший сын друга нашего Кузьмы Бородина. Ну, что рты разинули? Забыли, что ли, сына его, Владимира-кузнеца? Так он его брат младший. Петром зовут. По всей Руси славный он мастер-корабел. Будет вам лодки строить, а потом и корабли мы с вами построим, откроем прямой путь в Россию через Арал… Прошу любить и жаловать!
Возликовали рыбаки, — конец собачьей жизни подходит, новая, человеческая, начинается. Земно кланялись они Петру, а потом пошли обниматься. Вывели на берег диковинные плоты, развязали невиданные длинные и звонкие сосновые бревна, дерево пело под ударами топора. Наутро послали за славным по всей округе, хивинской выучки мастером Бектемиром, набрали охотников новому лодочному делу обучаться, и пошла у них с Петром дружная, спорая работа.
Первую лодку спускали на воду с торжеством великим, с радостью всенародной. Русского мастера Петра на руках носили, все добрые слова, в душе накопившиеся, каждый ему высказывал. И пошла радость рыбацкая из уст в уста гулять, со свежим ветром над аулами она загремела. Услышали в народе: «Маман-бий из России помощь привел», потянулись люди к нему вместе порадоваться, повидаться. Да не пришлось.