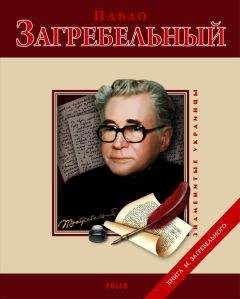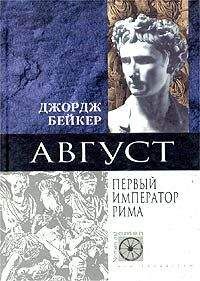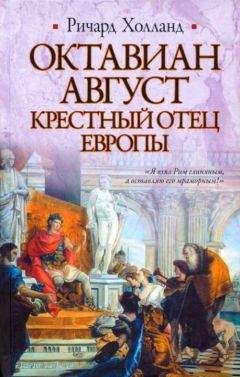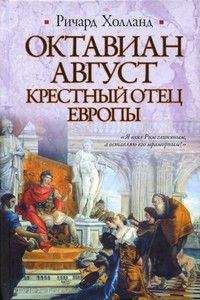Павло Загребельный - Ярослав Мудрый
— Князь? — Она словно бы вздрогнула, но подавила в себе что-то, снова стала обыкновенной, беззаботной.
— Ну да, Ярослав — князь. Считает, что за деньги можно купить искусство, но ошибается. Ты не знаешь о деньгах, ну и не нужно. Ни о том оболе, который платили перевозчику в царство мертвых Харону, ни о том оболе, который выпрашивал прославленный ромейский полководец Велизарий, наверное, не слыхала, ни о тридцати сребрениках Иуды, ни о драхмах блудницы Лаис, не ведаешь и о той старинной монете, которую дарил один из спящих в Эфесе, а также о сверкающих монетах волшебника из арабской сказки, которые впоследствии становились простыми кружками из кожи. Но мог бы рассказать тебе о великом восточном певце, который получил от султана шестьдесят тысяч монет за каждую строку своей песни, но возвратил их обратно, потому что были серебряные, а не золотые.
— За твою песню даже золота мало, — сказала она.
— Разве у меня есть песня? — удивился Сивоок.
— А там? — Ярослава показала на Софию. — Это все — как песня.
— Ты не разбираешься в этих делах. Всякое слово стремится к пению, но всегда ли доходит?
— Я научилась всему, взглянув лишь. Ибо нет такого нигде на свете.
— Ты еще мало видела мир.
— Знаю: нет нигде! — твердо сказала она, и Сивоок не мог поколебать девушку в ее убеждении.
Он не хотел видеть в этой девушке, бежавшей из Новгорода, вознаграждение за всю свою жизнь. Боялся не за себя — за нее. Обращался с ней осторожно, словно была она из драгоценного стекла. Но девушка не отходила от него, смело шла прямо на Сивоока, между ними еще не прозвучали те величайшие слова, которые произносят двое; но и без слов они уже знали о себе все, и оба ждали главнейшего, всячески оттягивая, отдаляя его, но зная хорошо, что оно придет — неуклонное, отпугивающее и одновременно желанное.
Лето прошло, а солнцеворота на стенах собора так и не было Митрополит мог лишь радоваться, что этот непонятный славянин, которого давно про себя прозвал не украшателем, а осквернителем храма, наконец устал в своих неудержимых выдумках, бросил свои затеи, исчезал на целые недели не только из Софии, но и из Киева, — так было лучше для славы Господней.
А те двое, обрадованные, что нашли друг друга в людском водовороте, беззаботно блуждали по Киеву, ходили в пущи, плавали за Днепр и за Десну, собирали ягоды в лесах, слушали птичий щебет; Сивоок находил невиданные синие цветы и дарил Ярославе, давняя его страсть к побегам пробудилась снова в крови, он готов был бежать от всего, лишь бы принадлежали ему эти нестерпимо серые, до сизости, глаза, эти приоткрытые уста, эта нежность, от которой немело его сердце.
А лето проходило. Князь Ярослав возвратился из Новгорода, шел с дружиной по Днепру, приближался к Киеву, а за князем шел товар[68]: возы с припасом, с шатрами-войлоками, с одеждой, коврами, оружием, мехами, казной, вели коней подменных, гнали скот. Возвращались княжеские прислужники, стража, бояре, воеводы, шуты, развлекатели, песельники и дудочники, шли попы и монахи, везли книги, купленные князем у купцов западных, пергамента старые и новые, в деревянных досках и серебряных рамках.
Выезжал из Киева князь — возвращался уже и не князь, а говорили — кесарь. Велено было в ковнице княжеской выковать венец золотой с изумрудами и рубинами, как у ромейских императоров, завещал Ярослав скорое освящение Софии, слал впереди себя гонцов, торопил митрополита и пресвитера Иллариона.
Самодержец земли Русской, величайший и могущественнейший государь во всех сторонах между севером и югом, западом и востоком, желал провозгласить это в высокой торжественности и пышности.
Из Чернигова прибыл Гюргий, съезжались все, кто причастен был к сооружению Софии, все ждали великой минуты, когда откроются кованые врата и запылают свечи, ударят по всему Киеву колокола…
Только Сивоок, более всех причастный к этому празднику, был равнодушен ко всему. Даже с Гюргием встретился случайно, ни о чем не расспрашивал, ни о чем не рассказывал — бежал к Ярославе, к своим беззаботным блужданиям.
Не было солнцеворота на стенах собора, но был он в душах этих двоих, буйный, неудержимый, полный восторга и привлекательности солнцеворот, который сочетал в себе весну и осень, зиму и лето, все времена года, все краски, голоса, звуки. Беззаботные и бестревожные жили они, словно остались только вдвоем на всей земле, словно не существовало для них ничего, кроме них самих, стали они вечными, бесконечными друг для друга.
Но тот же самый Мищило, который по неизвестным причинам свел их воедино, опять-таки неизвестно зачем попытался разъединить их тогда, когда все уже было напрасно.
Он пришел к Сивооку, в его хижину, разбудил, не дал ему опомниться, сказал:
— Прячь девушку, потому что за нею охотится боярин Ситник.
— Откуда тебе ведомо? — вскочил Сивоок.
— Говорю и знаю. Вчера узнал он о ней.
— Какое ему дело?
— Этого не ведаю. Предупредил тебя, а там как знаешь. На все воля Божья.
— Хвала. — Наверное, впервые в жизни попытался быть приветливым с Мищилой.
Сивоок сел, обхватил голову руками, встревоженно думал. Он не боялся Ситника, как не боялся никогда ничего на свете, а нынче и тем более, но предостережение Мищилы вызвало тревогу в сердце, отогнать которую он не мог. Почему зловещий ночной боярин должен был охотиться за Ярославой? Может, чтобы досадить ему, Сивооку? Тогда откуда известно ему все? Как узнал про Ярославу и про то, где она и как? Вопросы без ответов. А что, если в самом деле Ярославе угрожает опасность… Он побежал на другой конец Киева, где Ярослава снимала для себя избушку. Боялся, что не застанет ее дома. Ибо если Ситник узнал о ком-то, что он в Киеве, то почему бы не знал, в какой хижине он скрывается? Видно, еще не успел узнать. Ярослава была дома, ничто не выдавало в ней тревоги, наверное, не дошли еще до нее угрожающие вести. Что ж, так лучше. И не дойдут. Он взял ее за руку, сказал:
— Пошли.
— Куда?
— Куда глаза глядят!
— А что с собой брать? — засмеялась она.
— Не нужно ничего.
— Хорошо. Пошли.
Они в самом деле вышли в чем были. А дорога ведь простиралась в века. Но в своей беззаботности оба не ведали этого. Не ведали даже тогда, когда впереди в узкой улочке увидели троих. Отважно шли им навстречу. Сивоок узнал среди этих трех Ситника. Наверное, знала его и Ярослава, ибо побледнела, тотчас же остановилась. Ситник с двумя сообщниками почти бегом бросился на добычу.
— Беги! — хрипло сказал Сивоок. — Из Киева!
— А ты?
— Беги! — повторил он и пошел на тех троих.
Трое уже были возле него. Видно, не велено им применять оружие, потому что Ситник только сжимал ручку меча, а два его прислужника схватили Сивоока за руки.
— Беги! — еще раз крикнул Сивоок и оглянулся, чтобы увидеть, послушала ли его Ярослава; но ее не нужно было подгонять, — видно, знала, что не за ним идут, а за нею, недаром же тогда говорила, что бежала из Новгорода. Что-то зловещее таилось во всем этом, никогда больше не заводила речи про Новгород, никогда не мог бы связать ее имени с Ситником.
Она уже добежала до поворота улочки, в последний раз оглянулась — наверное, была уверена, что ему ничто не угрожает, а ей угрожало что-то страшное, потому что бежала изо всех сил; Сивоок глянул на ее лицо, ему принадлежали эти серые глаза, приоткрытые губы, эта стройная фигура, он впитал ее всю, запомнил навсегда, навеки. А Ситник, убедившись, что его болваны не сдвинутся с места, пока будут держать Сивоока, выхватил из ножен меч, ударил художника сзади по шее, когда тот смотрел вслед Ярославе, крикнул отчаянно своим.
— Рубите!
Те отпустили руки Сивоока, он обескураженно схватился за рану на шее, а они торопливо достали мечи, пронзили его с двух сторон, еще и еще. Он упал на землю. Тьма наплывала на него, сверкнули еще раз сквозь тьму серые глаза Ярославы, потом донесся до него из далекой дали тяжкий всхлип маленького мальчика на темной, дождливой дороге — и умер этот мальчик в великом, могучем человеке, неутомимое и страстное сердце которого затихло навсегда.
В ночь перед великими торжествами князь Ярослав, однако, выбрал время, чтобы принять в гриднице Ситника, спросил, как только появился на пороге:
— Где дочь?
Ситник мялся.
— Где? Спрашиваю.
— Бежала.
— В Новгороде бежала. Тут бежала.
— Сивоок…
— Что Сивоок?
— Помог ей.
— Где он?
Ситник снова мялся.
— Говори!
— Нет его.
— Ведаешь, что молвишь?
— Так вышло. Веление твое, княже, было всякого, кто…
— Убили Сивоока? — тихо спросил боярина князь, подходя вплотную.
— Ага, так.
Ярослав отошел в темный угол, долго молчал, потом сказал коротко, жестоко: