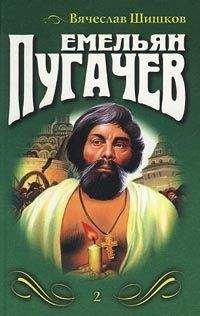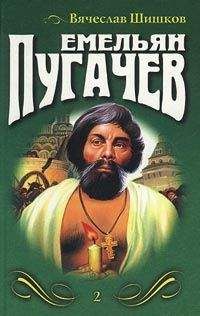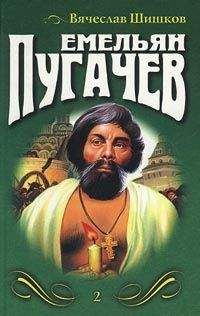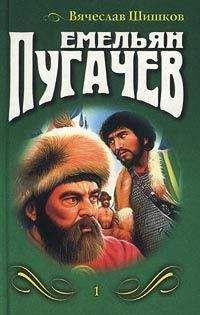Вячеслав Шишков - Емельян Пугачев (Книга 3)
Ниже, приложением, дается:
1) Думы Пугачёва, фрагмент, 2) Набросок к третьей части третьей книги: «Офицер Горбатов и Даша», а также несколько заметок к произведению;
3) не включенная по композиционным соображениям в 3-ю книгу глава «Суд и расправа»; 4) неопубликованная в печати глава «Купец Барышников» и 5) набросок ко 2-й книге «В бане».
Набросок «Офицер Горбатов и Даша» представляет собою краткое, вчерне, изложение финала истории офицера Горбатова и приемной дочери коменданта Яицкого городка Симонова – Даши Симоновой.
«В романе, или, как я называю, в историческом повествовании моем, – пишет В. Я. Шишков в статье „Емельян Пугачёв“, – мало вымышленных лиц и ситуаций, все в нем построено на строго исторической канве, чрезвычайно своеобразной и настолько в общем интересной, что не было надобности разукрашивать доподлинную историю выдумкой и домыслом».
И действительно, среди огромной вереницы лиц, встречающихся в романе, только немногие являются плодом «выдумки и домысла» автора. Но и в этих немногих персонажах творческая фантазия писателя подчинена была в полной мере логике исторической необходимости. Это не вообще присочиненные люди, это – литературные портреты, в которых индивидуализированы типические черты представителей разных сословий, участвовавших в Пугачёвском движении.
К числу таких персонажей, вымышленных, но обусловленных реальной действительностью своего общества и времени, относятся: офицер Горбатов – один из убежденных Пугачёвцев, вышедших из помещичьей семьи, его возлюбленная Даша с характерными для идеалистически настроенных девушек из дворянства чертами: она честна, отзывчива, склонна внимать народной скорби и не останавливаться перед полным разрывом со своим привилегированным положением в обществе.
Насколько писателя привлекали оба этих лица с их активною ролью в лагере Пугачёва, видно по тому, что из целой толпы действующих в романе людей всего чаще и охотней возвращался он к своему Горбатову и Даше Симоновой. Этим неравнодушием к ним обоим объясняется и то, что, невзирая на разнообразные заботы о многоликом мире своего романа, писатель поторопился «заглянуть» в печальную развязку истории Горбатова, зафиксировав её в беглом «наброске для себя».
Между прочим время, когда Горбатов стал поправляться от ран, писатель, по недосмотру, обозначает в наброске серединою сентября.
Очевидно, речь идёт о середине августа, так как ранили Горбатова на поле боя где-то между Саратовом и Камышином или вслед за взятием последнего – 11 августа. В наброске также говорится, что вскоре после того Пугачёв снарядил отряд, чтобы разведать об участи офицера. Меж тем в середине сентября Пугачёв уже был в руках предателей.
Разумеется, события, изложенные в наброске, легли бы в основу самостоятельной главы, причем история Даши в Яицком городке могла войти составною частью в главу о пребывании там Пугачёва.
В заметке «Падуров и офицер» имеется в виду запланированная автором, но нереализованная беседа Падурова с офицером Горбатовым.
Памятка из блокнота «О народной национальной культуре» свидётельствует о высказываемом не однажды писателем намерении привлечь необходимый материал для особой главы в романе о величии духовной и материальной культуры русского народа.
Глава «Суд и расправа», не включенная в последнюю часть третьей книги по соображению фабульного и композиционного порядка, имеет самостоятельную ценность как материал, дополняющий характеристику быта и нравов эпохи.
Думы Пугачёва
(Возле Ласточки).
Такой глубокой тьмы в душе, такого голого отчаянья Емельян Иванович никогда еще не чувствовал.
Сердце его сжималось до боли, кричать хотелось. Но не от физической боли хотелось кричать ему, он всякую боль перенес бы шутя, а от какого-то непонятного страха, от той пугающей пустоты, которая засосала его всего как бездонная, вязкая, холодная трясина. Вот уходит он в эту трясину по грудь, по плечи, вот сейчас погрузится голова его, и замрет вопль о помощи, и глаза будут слепы, и никакого следа не останется от него…
Гроб! Он в земле, во тьме, в трясине, и над ним тьма.
– Один я, Ласточка, один… И не на кого руку опереть! Были возле меня люди, да исчезли… Один! (Рассуждение.).
– Эх, Ласточка… Передрогло сердце у меня. Душа передрогла.
(Рассуждение.) – Идёт по миру молвь: горе проходчиво… Не верь, Ласточка! Уж ежели кого полюбит горе, жди погибели. (Рассуждение.) И встают пред ним картины печальные… и т. д.
– Да, Ласточка… Поневоле крылья сложишь, поневоле в лице помутишься… (Рассуждение.) И снова, и снова идут пред ним воспоминания.
– Слыхал я, да и сам певал проголосную… Вся правда в той старинной песне:
Сижу на коне я.
А конь не обуздан.
Смирить коня нечем,
Возжей в руках нету.
Вижу я погибель,
Страхом весь объятый.
Не знаю, как быти,
Как коня смирити.
И припоминается ему другая песня, пред началом своей «царской» миссии:
Ты бежи, бежи, мой конь,
Бежи, торопися!
– Люди думают, что человеку только свой крест тяжел, Ласточка. Ан нет… И другим тяжко… Взять трудников-крестьян, а того верней – заводских людей работных, – уж им ли не каторга?! А живут! Плачут, да живут, несут крест свой. Вот и я – взвалил на себя ношу, аж ноги подгибаются. Да и взвалил-то не сам, не своей охотой, а уж так пришлось.
Он долго моргал глазами и добавил:
– Шибкая жалость к людишкам душу мою сразила, всю изранила.
– А я не страшусь, не страшусь своего конца. Прежде смерти не умру.
Не о себе страшусь, о деле. Не свершил того, что задумал, что в мысли пало. Посередь пути остановился. Не похвалит меня народ, ругать будет.
Память обо мне погибнет с шумом. Народ-то скажет: где же земля-то, где воля-то, где устройство-то казацкое, что батюшка обещал? Эх, батюшка, батюшка, всего наобещал, да ничего не дал. И сам загинул, и нас под обух подвел… Гори ты, батюшка, огнем вечным… Обманул ты нас! Вот это самое зубами мое сердце рвет, чавкает, как волк падину… Эхма!»
Офицер Горбатов и Даша.
(Набросок к 3 части третьей книги).
Даша находится на барже с шестью пленными девушками дворянками. Они под караулом. Когда с Саратовом было уже кончено, казак с баржи докладывает Пугачёву, как быть с дворянками.
– Мне теперь не до девок. Пускай пока в барже живут. Кормить, поить, зла им не делать. И чтоб караул был.
Армия снимается, идёт вперед на юг. Даша в отчаяньи. Она узнает от казака, что Горбатов жив, здоров. Он казака до Пугачёва проводил. Баржа снимается, выходит на фарватер. Еще момент – и все упущено: Пугачёв, а вместе с ним и Горбатов уйдут, отдалятся от Волги. Она на клочке бумаги пишет углем: «Батюшка, допустите меня к себе… Я – Даша Симонова». Казак не соглашается отвезти. Даша падает пред ним на колени. Нет, не согласен!
Даша, перекрестившись, бросается в воду в надежде достичь берега. Но плавает она плохо. Казак бросается за нею. Ловит её за косу, спасает.
После этого, на другой день, казак соглашается отвезти записку. Плывет на лодке. В это время идёт бой. Казак все же подает записку Пугачёву.
– Чего это такое наварачкано?
– Это от девицы одной. Она называет себя Симоновой Дарьей.
– Ааа… Эвот чего… Стало – жива? Да как она попала-то? Вези!
– Одну?
– Одну!
Дашу привозят в палатку Софьи Дмитриевны в непросохшем еще платье, она переодевается там в наряд Анфисы. Анфиса бросилась ей на шею.
– Барышня… Миленькая! Да как вы здесь?
– Прегрешила я… Замест монастыря за земным счастьем погналась…
– Уж не суженый ли какой тут?
– Горбатов.
Анфиса вздохнула, и руки у нее повисли.
Пугачёв поскакал в середку боя, где Горбатов.
– С победой, государь!
– А тебя со счастьем… Нареченная прибыла к тебе…
– Кто?
– Даша.
Крутя над головой саблей, мимо них мчался Овчинников с казаками:
– Горбатов! – крикнул он. – Чего зеваешь? Рубай их, так-их-так!..
Горбатов с Ермилкой, с Сысоевым, Мишей Маленьким и полсотней удальцов, только что вырвавшись из боя, вновь помчался, крича:
– Ура!.. Вперед, братцы!..
Бой продолжался недолго. Вражеская конница с пехотой побежала.
Пугачёвцы бросились рубить и отхватывать их пачками. Внутри Горбатова все играло: каждый мускул, каждая кровинка. Даша и победа, победа и Даша… И вдруг пуля, пущенная из кустов, стегнула ему в верхнюю часть головы, повыше лба, шапка слетела на землю, Горбатов упал, ударившись головою в землю.
Бой кончился. Все думали, что Горбатов мертв, но он еще дышал. Его положили на чекмень, пристроили меж двумя лошадьми, как в зыбке, и тихой ступью поехали к лагерю.
Гнали пленных солдат. На шеях некоторых накинуты петли. Даша, исхудавшая до неузнаваемости и взволнованная, стояла возле Пугачёва. Кисти рук её были сомкнуты, глаза неотрывно прощупывали всех, подъезжающих к Пугачёву. Вот подъехал Творогов, подъехал Овчинников. Кони их и сами всадники едва переводили дух. Овчинников обливался потом, лицо горело.