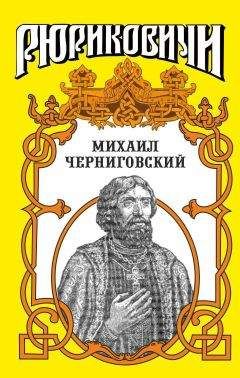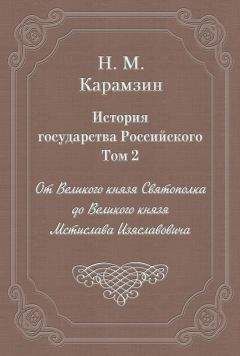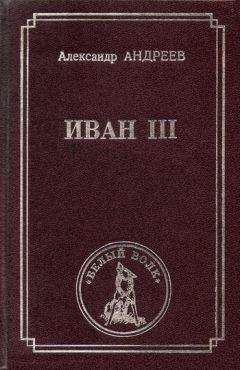Ульрих Бехер - Охота на сурков
Взмах руки, этакое потряхивание, выражавшее презрение, и, повернув мне спину, к которой пристали две-три пушинки, он уставился, не переставая почесывать Патриарха, на выцветших гномов. Мне показали на дверь.
— Тогда, стало быть, извините еще раз, что побеспокоил, и большое спасибо за информацию. Ваши псы действительно превосходны, должен признать, но тысячу двести… исключено. Мы, надо вам сказать, из Австрии… экс-Австрии… Особые обстоятельства нынче, вы понимаете…
И что это я, непрошеный гость, разговорился, вместо того чтобы уйти?
Но он внезапно обернулся и, слегка покачиваясь, уставился на меня: на монокль, потом на лоб.
— Мое почтение, господин де Колана.
Я поклонился и, повернувшись, зашагал из этого хаоса, из этой помеси музея со свалкой, зашагал по гулким, потрескивающим плиткам прихожей. Но тут за мной послышалось шарканье и стук трости о пол.
— Хе-е! Господин из Австрии, — гулко громыхнуло сзади.
На нем была широкополая черная шляпа, в которой он напоминал патриархального крестьянина и еще, пожалуй, священника. Вокруг него резвилась вся свора.
— Вы куда направились?
— Я? Да вот, назад, к Пьяцагалли. Жена ждет меня там.
Он подшаркал ближе. Враждебное высокомерие как будто улетучилось. Из-под раскосмаченных усов глянула легкая ухмылка, он что-то грыз.
— В пьяцагаллиев Граубюнденский зал? — Он грыз мятную лепешку, очистившую его проспиртованное дыхание. — Так-так… А не троицын ли завтра день, хэ?
— Совершенно верно.
— А что, если мы позволим себе… эхм-хм… в честь этакого дня рюмочку кьянти «Антинори»?
Невзирая на чирей, сверкавший на носу пьянчуги, он с завидной непринужденностью разыгрывал добропорядочного пуританина, позволяющего себе единственно в канун троицы рюмочку вина; разыгрывал превосходно.
— Позвольте проводить вас и угостить бокалом вина.
— Буду от души рад.
Прощание с псиной сворой превратилось в своего рода церемонию. Не на ретороманском, а на превосходном итальянском он произнес утешительную речь, которую заключил благословляющим жестом. Только Патриарх Арчибальдо получил привилегию сопровождать его. Последний огорченно-преданный взгляд восьми пар спаниелевых глаз, и де Колана захлопнул дверь, запер ее, пользуясь длиннющим ключом. Опираясь на палку с янтарным набалдашником и сбитым резиновым наконечником, он двинулся в путь; я прикинул: таким темпом мы прошагаем до Пьяцагалли минут двадцать. Но тут адвокат предложил подождать, а сам, и за ним вперевалку Патриарх, потопал за угол дома.
Тарахтенье стартера, рев мотора, и из-за угла выполз заляпанный глиной «фиат». Я нерешительно подсел к Патриарху, горделиво восседавшему рядом с водителем. К моему немалому удивлению, де Колана уверенно пересек площадь и, развернувшись не без элегантной лихости, выскочил из коротенького переулка на Виа-Местра. При этом он сообщил мне, что хорошо знает Австрию, изучал в Грацском и Инсбрукском университетах юриспруденцию в 1905 году, а впоследствии еще и в Гейдельберге. Когда же я сказал ему, что полтора десятилетия спустя также был студентом юридического факультета в Вене и Граце, он коротко хмыкнул и, оживившись, прохрипел:
— Однокашник!
Ксана все еще читала газеты. Граубюнденский зал уже опустел, большая часть гостей разошлась по домам ужинать. Оставшиеся не могли сдержать взрыва хохота, когда я знакомил Ксану с де Коланой. Синьор Пьяцагалли почесывал свои рубцы, хихикал в кулак. Потом вихляющей походкой подошел и справился, едва сохраняя серьезность, не желаем ли мы отужинать в ресторане. Мы предпочли остаться у Анетты и заказали «яйцо по-русски», самое дешевое блюдо из всего меню; де Колана, не придавая этому обстоятельству значения, заказал то же самое (из вежливости, предположил я) и пригласил нас распить пол-литра кьянти «Антинори».
— «Маркиз Антинори Фиренце».
Арчибальдо, Патриарх, уселся в предоставленное ему плетеное кресло. Ксана с восхищением, ласково что-то приговаривая, любовалась плесневело-зеленоватой стариковской мордой. Адвокат хохотнул в нос, польщенный, а когда узнал, что и Ксана спустя четверть столетия после него училась в Грацском университете, занимаясь классической филологией, оживившись, прохрипел:
— Однокашница!
За бутылкой вина он полностью избавился от тяжелого похмелья и показал нам маленький шрам на виске, полученный в гейдельбергской студенческой корпорации «Саксоборуссия». По его кивкам все больше и больше оплетенных бутылок «Антинори» появлялось на нашем столе.
Празднество закончилось тем, что я чуть ли не на закорках доставил Ксану к машине адвоката. Сам снова сел рядом с водителем и был наготове в случае надобности перехватить у него руль. Однако наше ночное путешествие в Понтрезину, под аккомпанемент далеко-близкого позвякивания коровьих колокольчиков, закончилось без происшествий. Иногда де Колана вытягивал шею, чтобы взглянуть в зеркальце на Ксану, спавшую, свернувшись на заднем сиденье; и тогда вел машину еще более, если это возможно было, осторожно. В свете фар я перехватил его счастливую ухмылку. Молодая женщина позволила себе выпить лишнего (он и не подозревал, что это опьянение было первым в ее жизни) — это оправдывало до некоторой степени его собственное бражничество.
Да, он вел машину осторожно.
Супруги тен Бройки пригласили нас в воскресный троицын день на прогулку. Однако «спирто-водочная эскапада» Ксаны вынудила меня позвонить им и отказаться; прогулку отложили. Все праздники, а также вторник и среду я работал. Неумеренное потребление сигар начало сказываться на нашем бюджете. Подарок Максима Гропшейда я вновь упрятал в чемодан с рукописями. Мне изрядно прискучило разгуливать вооруженным. С каждым днем абсурдность моего подозрения становилась все яснее. Если на меня готовится покушение, то откомандированные для этой цели люди получили бы приказ действовать безотлагательно, они не проводили бы в пассивности день за днем, прибыв на место замышляемого преступления. Но в четверг после троицы между четырнадцатью и пятнадцатью часами произошла ВТОРАЯ ВСТРЕЧА.
Полиция Швейцарской Конфедерации по делам иностранцев, предоставила нам, правда, временное право на жительство и вместе с тем строжайше запретила мне работать. В цюрихской ратуше, сразу же после моего драматического въезда в страну-убежище, до моего сведения довели, что на все время нашего пребывания в Швейцарии мне запрещено заниматься какой бы то ни было литературной работой. Я напрямик спросил, основано ли подобное запрещение на политических соображениях, ибо конек швейцарской полиции по делам иностранцев — это «угроза нейтралитету со стороны иноземных элементов». Меня отчитали в резкой форме: я тут временнотерпимый и, как таковой, обязан подчиняться «приказам властей». Приказ коротко и ясно гласил: запрещение литературной работы. Ага, но позволено ли мне, по крайней мере с любезного разрешения властей, делать заметки? «Заметки, заметки», — пробормотал с отвращением чиновник, нет, он не возражал.
Итак, я стал делать заметки.
Под псевдонимом Австрияк-Бабёф они публиковались одновременно в «Остшвайцерише арбайтерцайтунг», в бернской «Таг-вахт», луганской «Либера стампа». Я излагал историю Австрии от февраля тридцать четвертого до марта тридцать восьмого с собственной точки зрения. Гонорары переводились по условному адресу: Генрик Куят, Луциенбург в Домлешге.
Записки Австрияка-Бабёфа начали публиковаться, когда я еще над ними работал, а потому печатались с продолжением и назывались «За февралем приходит март».
— Ксана.
— М-м-м.
— Не хочешь ли подняться со мной на Корвилью?
— Кор… куда? — жалобно прострекотала Ксана.
— На Корвилью. Поедем от Шульхаусплац в Санкт-Морице по канатной дороге. Сверху можно увидеть доломиты. А с другой стороны открывается вид до Маттерхорна, при хорошей погоде. Погода превосходная, с работой у меня сегодня ничего не получается. Ты же знаешь. Я четыре дня безостановочно стучал на машинке…
— Ах, Требла.
— Ну что ты? A-а! Знаю. Оттого, что в субботу, в присутствии господина де Коланы… Но поверь, нет причин мучиться угрызениями совести. Когда мы… когда мы погрузили тебя, Анетта сказала, что здесь, в Верхнем Энгадине, такое случается с дамами из лучшего общества. По-видимому, из-за разреженного воздуха… Прошу тебя, забудь наконец, что ты была под хмельком, малыш.
— Малыш…
— Да?— Я не была под хмельком. Я же была… без сознания.
Ксана в новом дешевеньком фланелевом халатике примостилась на краю кровати, сложив руки на коленях и опустив голову; копна бронзово-золотых волос скрыла от меня ее лицо. Но тут она откинула волосы.
— Так что, говоришь ты, сказала Анетта? Это от горного воздуха?