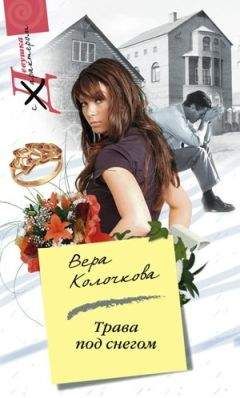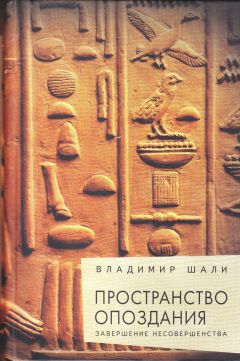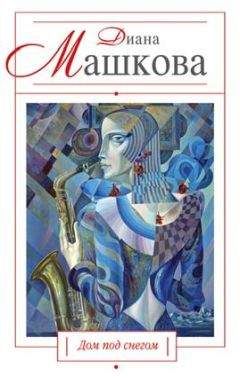Лев Жданов - Былые дни Сибири
Выхватя его из колыбели, Василида села, прижала мальчика крепко к груди и беззвучно залилась слезами.
Мальчик сперва с удивлением смотрел на светлые капли слез, которые быстро, одна за другой так и скатывались по щекам на подбородок и на грудь матери.
Потом, как будто почуяв, что его матери тяжело, что это слезы глубокого горя, слезы надорванной, измученной души, ребенок стал зажимать Василиде глаза, мешая плакать, отирал ей слезинки и кончил тем, что сам заревел на всю кухню.
— Нишкни, нишкни, родимый… Вот, на сиси… Помолчи! Вот попляшу я с тобой! — стала теперь утешать ребенка мать. — Агу, агунюшки… Смейси, мой душонок… Хохотунчик… Слушай песенку!..
И она принялась напевать, приплясывать с малюткой, стала улыбаться ему, хотя слезы неудержимо так и катились из воспаленных глаз, окаймленных черными кругами от бессонницы, от устали и от муки душевной и телесной.
В это время Савелыч подошел к подвалу с тяжелым мешком на плечах, который вынес из светелки.
Увидя Софьицу, ожидающую его у приоткрытой двери, он весь потемнел, нахмурился.
— Эк, они тебя, окаянные… Погибели на них нет, на иродов… Ну, добро… Ты, слышь, подь, одень што иное, поцелее. Я и сам тута справлюсь. Да углядел я: тамо стряпка по воду пошла. Гляди, не выпустит ее идол, что при воротах поставлен настороже… Краше б она и не тормошила его… Пусть подоле подрых бы… Перейми стряпку-то, коли поспеешь…
Софьица поспешила исполнить приказание старика.
Савелыч, не опуская тяжелой ноши, сошел в подвал, прикрыл за собой дверь извнутри на засов, зажег светец и лопатой, стоящей тут же, словно наготове, стал в одном углу разгребать плотно убитую землю.
Скоро открылась подъемная дверь в другой, потайной, подвал. Вернее, то была большая яма, «похоронка», где на случай грабежа или пожара старик приберегал все наиболее ценное из имущества.
Теперь из мешка он вынул несколько шкурок собольих, лисьих и песцовых, все запретный товар высокой цены и качества. Потом добыл небольшой, обитый моржовой кожей и окованный ларец, очевидно с деньгами.
Все это он опустил в «похоронку», закрыл снова дверь, засыпал ее землею, утоптал… И через полчаса даже следов не осталось того, что тут хранится что-нибудь на глубине двух-трех аршин под землею.
Когда старик вернулся в горницу, весь двор был уже на ногах.
Казак, спавший у ворот, разбуженный стряпкой, выпустил ее к соседнему ключу набрать воды. Но сам, видя, что день занимается, что рабочие Савелыча уже завозились в конюшне и во дворе, решил побудить начальника и товарищей.
Хмурые, не выспавшись, не отдохнув порядком, поднялись они вместе со всеми проезжающими, случайными гостями Савелыча.
— Где хозяин? Бабенка куды сбежала? — крикнул Васька Многогрешный, едва раскрыл глаза и встал со своей походной постели.
Когда прибежала Василида, он потребовал вина опохмелиться, хотя и вчерашний хмель еще туманил ему сознание и вязал язык.
— Как будет твоя милость? Не позволишь ли нам со двора съезжать? — робко подойдя к столу, где сидел Многогрешный со всеми товарищами, спросил один из приказчиков, которого отрядили остальные постояльцы.
— А вот раней догляжу ваши столицы да товары… Нет ли самовольных торгашей, али товаров запретных?.. Тоды и убярайтесь ко всем чертям на кулички! — угрюмо ответил Многогрешный.
Сейчас же пятеро из стрельцов пошли к возам, где заставили хозяев развязать свои тюки и помещения, так старательно и прочно увязанные.
Пока приказчики с помощью работников Савелыча возились у товаров, два пожилых купца показывали все бумаги и документы Многогрешному, а тот сидел и ломался перед ними не хуже верхотурского воеводы, которого видел на Приказе.
— Писано: «Едет купец Григорий Осколков с троима возами, а при них два приказчика да четыре возчика»… Хто буде из вас Гришка Осколок?
— Я Осколков!. — степенно кланяясь, ответил первый широкоплечий пожилой брюнет с благообразным лицом и окладистой бородой.
— Ладно. Далей: «купец вологодской Ванька Савватеев с чотыре воза и один приказчик да двое возчиков при нем». Ты, что ли-ча?
— Мы, мы и будем… А приказчики и челядь — при возах… Погляди, коли желаешь… Все, как прописано…
И рыжебородый юркий купец стал учащенно отвешивать поклоны объездчику. А сам, сунув руку за пазуху, достал оттуда, очевидно, заранее приготовленный сверточек с рублевиками и положил их на стол перед Многогрешным.
— Энто што же? За што же? Кажись, пока не за что! — спросил последний, в то же самое время загребая и пряча сверток в карман.
— А так, значит, как оно водится… Для ради знакомства. Прими, не погребуй. Выезжать совсем станем, ошшо поклонимся. Лих бы несильно нам возы растрясали. Увязать апосля — кака работа! — сам ведаешь.
— Ладно. Федька, подь скажи: не очень бо тамо наши… Пусть поглядят товарищи, што надыть. А зря — не ломать тюков. Что получче, чай, при себе купцы господа берегут. Найдем, коли пошарим.
Пока один из казаков пошел исполнять приказание начальника, Многогрешный продолжал прочитывать подорожные пропускные столбцы:
— «Петька Худеков с двома возами, да двое приказчиков, да двое возчиков из Пекингу, из китайского городу». Энто кто же будет? На полатях, тамо, што ли, сидит, к нам сюды не жалует? Ась?
И стрелец кивнул на полати, где темнели две-три фигуры, очевидно не решавшиеся слезть и предстать пред очами объездчиков.
— Не. На полатях — подьячий какой-то… И с двумя полоненными из Апонии, слышь, из самой… А наш Петра Матвеич спит еще в светелке… Туды его с вечера хозяюшка моя свела… Больно хмелен был старик. Вот, на покой и ушел, — отозвался Савелыч.
— Ничево. И до светелки твоей дойдем-доберемся. Все в свой черед. Видно, гусь закормленный, коли при одном при ем, при двух возах — четыре души приписано. Издалека едут… Из самово Китая, слышь, города… Поглядим, пощупаем! Вы вон двое только туды сбираетесь. А он уже оттеда… Вот ево нам и цадоть… Поезжайте со двора. Вас отпустят… С Богом…
Пока обрадованные оба купца, отдав поклоны, стали натягивать на себя верхнюю одежду и подпоясываться, Многогрешный крикнул людям, сидевшим на полатях:
— Гей, вы тамо!.. Ползи суды, к свету… Што за люди? За какими делами и куды путь держите?.. Каки ваши будут письма, прописки да отписи?
Повинуясь оклику, с полатей слез и приблизился к столу человек лет тридцати пяти на вид, худощавый, светловолосый, с курносым носом и темными бегающими глазками, которые особенно пытливо, почти враждебно вглядывались в каждого, с кем встречался их хозяин. Одет он был чисто, но довольно бедно, так, как одевались в то время приказные попроще.
За ним слезли и стали поодаль еще два человечка маленького роста, одетые наполовину по крестьянски, в лаптях, в простых рубахах и портах, но в потертых кафтанах с камзолами, которые были им очень велики. Косые узенькие глазки, смуглые обветренные лица, черные жесткие волосы, словно из тонкой проволоки, — все говорило о монгольском происхождении человечков. Но в то же время они не походили ни на тунгусов, калмыков или прибрежных айянов, ни на китайцев, которых хорошо знали в Сибири.
— Что за люди?! Откуда? Ты сам хто? Слышь, давай ответ! — прикрикнул Многогрешный на приказного, стоящего впереди.
Тот так и упал на колени, добивая земной поклон.
— Твой раб, государь милостивый! Холоп твой, Ивашка Нестеров, челом тебе бьет. Вот, тута все наши приписки и сказни! — подавая казаку два темных свертка желтоватой бумаги, продолжал он. — А эти двое апонские люди из града Эдо. Больше их было. Всех одиннадцать человек на бусе {Бус — большой бот.} на ихнем бурею прибило к нашим берегам. Семеро померло с нужды да с хвори, покуль наши их нашли. Четверо осталось… Отписано было про них государю-батюшке. И приказ пришел: везти их в Питербух-город без мешканья.
— Где же все время пребывали энти апонцы? Почему не четверо их? Куды теперя едешь с ними? Ась?
— Поизволь поглядеть в столпчик: тамо прописано. К Верхотурскому воеводе мы из Якутского посыланы. А оттель — куды Бог пошлет, коли не к самому царю-батюшке… А раней придется нового нашего воеводу и губернатора всей Сибири повидать: князя Матвей Петровича света Гагаринова.
— Нешто едет новый воевода? — всполошившись, спросил казак.
— Едет, слух слывет, к Верхотурью подъезжат уже… А двоих апонцев из четвертых потому везу, что достальных двое изменник Данилко Анциферов увозом увел, в те поры как смерти предал атамана Атласова и сам с товарищи мятежом замутился.
— Данилко Анциферов? Атласова атамана убил? Чево байки плетешь? Гляди, кабыть тобе языка я к пяткам за то не вытянул.
— Язык мой, воля твоя. А я правду баю… Было дело воровское. Той Данилко со товарищи заводили круги… И знамена выносили. И спор у их пошел тута так, што картами да бердышами били один другого под знаменами. И назвали Данилку атаманом… И ушли из Нижнего Якутского острогу. Только теперя уже тот вор, изменник окоянный Данилко, пойман и с товарищи, Казна осударская у их отымана… Вот, лих, не доспели разыскать, куды он подевал полоненных двоих апонцев. Розыщут их — за нами следом к царю пошлют, слышь… А над мятежными суд учинен. Недолго им еще ходить по белу свету…