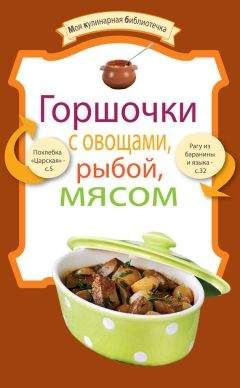Эдуард Эттингер - Аттила России
— Очень глубокий обморок — придется пустить кровь!
— Прикажи перенести ее в комнату и займись там с нею, а завтра утром приди ко мне — надо будет придумать, что нам делать с ней. Ты говорил, что эта змея грозилась раскрытием какой-то тайны? Гм! Теперь она способна, пожалуй, привести угрозу в исполнение! Ну, да мы там подумаем!
Позванные Бауэрханом слуги перенесли бесчувственную Бодену на ее кровать. Державин снова остался один.
IX
Всю ночь Потемкин не мог заснуть, думая, как бы ему наказать изменницу. По временам, когда он вспоминал, с какой ненавистью и отвращением говорила смуглянка-ведьма о необходимости покоряться его, Потемкина, ласкам, вся кровь бросалась ему в голову и он подумывал о своей угрозе обрезать ей уши и волосы и изуродовать нагайкой. Но когда он представлял Бодену в таком изуродованном виде, то ему становилось так жалко ее, его так терзала мысль, что она будет навсегда потеряна для него, что он не находил в себе сил привести в исполнение эту угрозу.
Так в нерешительности дождался Потемкин утра, когда к нему в спальню вошел Бауэрхан.
— Ну, что же мне делать? — спросил Потемкин врача.
— Прежде всего вам следует выпить стакан горькой воды, чтобы отвлечь все те вредные соки, которые выделяет организм при каждом сильном волнении!
— Допустим. Ну а дальше что, мудрый Кукареку?
— А дальше мы совместно обсудим, что следует предпринимать в случаях обострения вашей хронической болезни (ибо любовь — не что иное, как болезнь на психической почве).
— Ты мне вот что скажи: что Бодена?
— Ничего, все идет хорошо. Когда ее перенесли на кровать, она стала вздыхать и стонать, хотя и не пришла совершенно в себя. Поэтому я не стал пускать ей кровь. Под утро я еще раз заглянул к ней — она спала глубоким сном. Проспится и будет здорова, обойдемся и без кровопускания.
— А все-таки следовало бы пустить твоей пациентке немножко крови из той части спины, где последняя уже теряет свое благородное название!
— О, это ни в коем случае не могло бы повредить! Я стою за двадцать пять розог — это усиливает циркуляцию крови и предохраняет от рецидивов.
— Видишь ли, Кукареку, ты сам говорил мне, что эта змея грозилась в Петербурге сделать какие-то разоблачения. Самое скверное то, что мы не знаем — какие именно. Бодена даром грозиться не станет, а если хорошенько порыться, так в моей жизни найдется немало того, что… как бы это сказать…
— На что мудрая государыня и отцы церкви могли бы косо посмотреть? Пожалуй! Так, например, насколько я знаю, ваши церковные каноны несколько иначе смотрят на родственную любовь… хотя бы к племянницам, чем смотрит на это ваше высокопревосходительство! Да и потом…
— Не болтай глупостей, Кукареку! Знаешь поговорку: «Всяк Еремей про себя разумей»? А то есть и получше: «Держи язык за зубами — целее будет»! То-то!.. Ну, так вот: если применить к этой ведьме слишком сильные средства, то она может наделать немало зла. Не знаешь ли ты более мягких средств?
— Откровенно говоря, я считаю девчонку в этом отношении совершенно неизлечимой. Она упряма, как бес, и не успокоится до тех пор, пока не поставит на своем. А Державин хоть и очень благородный мужчина, но он — мужчина, и этим все сказано!
— Их, разумеется, сейчас же надо разлучить. Я отослал бы Державина, но он мне необходим…
— Боже упаси! Если отослать его, Бодена сейчас же сбежит, и вы ни с какими собаками не сыщете ее. Нет, его надо оставить.
— Но Бодена, Бодена?
Бауэрхан подошел к Потемкину, наклонился к его уху и шепнул несколько слов.
— Поверьте, ваше высокопревосходительство, — вслух договорил он, — это убивает двух зайцев одним ударом: обезвреживает и исцеляет…
— Отличная мысль! Молодец, Кукареку, я знал, что ты придумаешь что-нибудь умное! Поручаю тебе все сделать, и чем скорее, тем лучше! Ступай и действуй! А я пошлю верхового предупредить там.
Бауэрхан прошел к Бодене. Он застал ее в самом отчаянном расположении духа.
— А, пришел, палач! — крикнула она, увидев врача.
— Милое дитя мое, — ответил Бауэрхан, — стоит мне сказать тебе несколько слов, и ты раскаешься в своем гневе. Знаешь, кто прислал меня к тебе? Державин!
— Не может быть! — воскликнула Бодена. — Что же он велел передать мне? О, говори, говори скорее, милый Бауэрхан!
— Ага! Теперь ж и «милый»! Выслушай меня внимательно: вчера тебе была устроена ловушка… Потемкин не уезжал, а подстерегал твои признания.
— Я знаю это. Но не все ли мне равно? Раз мой ненаглядный, бесценный не любит меня, то…
— А кто тебе сказал, что он не любит тебя?
— Он сам!
— Дурочка, разве адъютант не знал, что его генералу никуда не надо было уезжать? Державин боялся ловушки и был осторожен. Он хотел предостеречь и тебя, однако ты не поняла его знаков — ты была словно безумная. Но он глубоко любит тебя…
— Не может быть!
— Не прерывай: время не терпит. Сегодня, рано утром, Потемкин позвал меня к себе и спросил, нет ли у меня такого средства, чтобы можно было человека пытать подолее. Он объяснил мне, что хочет примерно наказать тебя, но боится, вдруг у тебя не хватит сил вынести мучения? Так вот, с помощью подкрепляющих средств, которые не дадут тебе умереть, он хочет целую неделю рвать твое тело по кусочкам. Он приказал мне сейчас же распаковать походную лабораторию и заняться приготовлением этого средства.
Но я не могу допустить, чтобы такое молодое, красивое, очаровательное создание, как ты, стали уродовать, мучить. Я пошел к Державину и рассказал ему все. Он признался мне в своей любви к тебе и просил помочь. И вот что мы с ним придумали: вам с ним надо бежать…
— Но куда? Когда? — спросила Бодена с загоревшимися глазами.
— А вот послушай! Только что Потемкин вызывал Державина к себе и приказал ему немедленно ехать в Петербург с бумагами. Конечно, Державин сейчас же собрался в дорогу и уехал. Но он не поедет в Петербург, а остановится в нескольких верстах от Москвы, в доме у своего дяди. Сейчас Потемкин заснул в ожидании, пока я приготовлю желаемое средство. Так вот, пока он спит, давай уедем туда же, к дяде Державина. Там вам дадут свежих лошадей, и вы умчитесь с ним за границу, где вас никто не разыщет. Согласна?
— Господи, да как же не согласна! — дрожа от радости, воскликнула Бодена.
— Ну, так поскорее оденься и выходи к Москве-реке; я уже послал верного человека за ямщиком и буду ждать там тебя.
Через полчаса они уже мчались по московским улицам, направляясь к заставе.
Немного больше часа проехали они по довольно гладкому тракту, как перед ними показалось мрачное строение, обнесенное высоким тыном.
— Вот мы и приехали, — сказал Бауэрхан, соскакивая на землю и дергая за ручку звонка.
Вскоре за калиткой послышалось позвякивание тяжелых ключей и сердитый голос спросил:
— Кто там?
— Бауэрхан с гостем.
Послышались звон отпираемого замка и тяжелое громыхание отодвигаемого засова; в калитке показался огромного роста сторож, сумрачно окинувший посетителей взглядом угрюмых глаз.
Бодена с непонятной для нее дрожью прошла вслед за врачом во двор. Сзади них послышался шум задвигаемого засова.
Они прошли в подъезд дома.
— Побудь здесь, — сказал Бауэрхан Бодене, быстро поднимаясь вверх по лестнице. — Я сейчас.
— Где я? — с дрожью в голосе спросила Бодена угрюмого привратника.
— В доме для сумасшедших! — ответил тот.
X
С энергичным вмешательством Потемкина борьба с Пугачевым значительно продвинулась. Действуя привычным ему способом — подкупом и предательством, Потемкин сумел через своих агентов склонить ближайших клевретов самозванца к измене. Пугачев был выдан властям и привезен в Москву.
Сначала самозванец держал себя твердо и даже вызывающе. Но приемы административного воздействия скоро сделали свое дело. Так, когда Пугачева привели в Симбирске к графу Панину, последний спросил:
— Ты кто?
— Емельян Пугачев!
— Не Емельян, а вор Емелька, — крикнул граф, ударил закованного в кандалы самозванца кулаком по лицу и выдрал у него клок бороды.
В конце концов Пугачев упал духом. Императрица Екатерина II писала Вольтеру в письме от 20–31 декабря 1774 года следующее:
«Маркиз де Пугачев, о котором вы пишете мне в Вашем письме от 16 декабря, жил разбойником и умирает подлым трусом. В тюрьме он был поражен такой слабостью и страхом, что его пришлось осторожно подготавливать к слушанию приговора о смертной казни — из боязни, чтобы он от страха не умер тут же на месте».
Презрительно отзываясь о нравственной «стойкости» Пугачева, Екатерина II ни одним словом не заикнулась в письме о всех тех мучениях и издевательствах, которым подвергали несчастного узника. И если теперь, в наш «гуманный» век, многие государственные преступники лишаются всей душевной твердости под влиянием тюремного режима, то что же говорить о мерах воздействия восемнадцатого века?