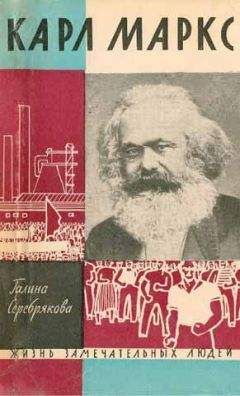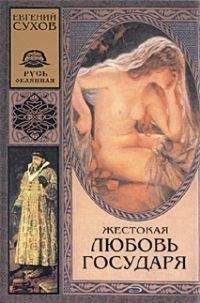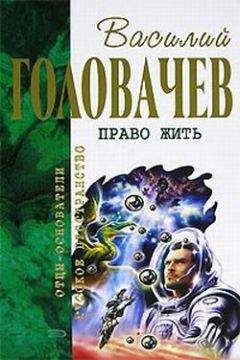Галина Серебрякова - Юность Маркса
— Дети мои, — сказал он, тяжело вздохнув, — нам придется расстаться. В течение недели я потерял жену, Андрэ, который был моим крестником, сына Жана, а сегодня я лишусь вас.
— Ты жалеешь о случившемся, старик, — буркнул Иоганн сердито, — а я скажу, что дни восстания были лучшими в моей жизни. Теперь я знаю, что делать и куда идти.
— Оставим споры, Сток. Не время. Герцог Орлеанский с армией завтра войдет в город. Начнется расправа, тебе первому не миновать тюрьмы, а то и хуже. Кровь пролилась понапрасну: тариф отменят. Бувье-Дюмолара уже принудили покинуть город. Зато вчера вернулся в город негоциант Броше. Король нас предал, бог покинул…
Старик опустил седую голову и долго сидел молча. За окном мелькали угрюмые, согнувшиеся люди с котомками. Они оставляли город в канун расправы.
Сток вышел на улицу и направился к площади предместья, чтоб еще раз взглянуть на временный штаб восставших. Дом был пуст и темен.
В воротах кто-то положил ему руку на плечо.
— Прощай, друг, может, не сведет судьба больше.
Всмотревшись, Иоганн узнал молодого рабочего Менье, который шесть дней назад вел отряд на арсенал.
— Темно кругом, — продолжал Менье, отвечая на выразительное рукопожатие Стока. — Я больше не знаю, как нам быть. Мы победили. Мы стали хозяевами Лиона, и мы сдали все без сопротивления. Что делать дальше? Бороться за тариф или сдаться на милость господ и довольствоваться подачкой? Когда же появится человек, наш рабочий мессия, который научит нас бороться и объяснит, почему, победив, мы снова всего лишь жалкие рабы!
Сток молчал. Он сам мучился всем тем, чего не понимал Менье.
Они расстались.
На другой день Иоганн и Женевьева покинули предместье Круа-Русс и направились в Германию.
Глава вторая
Трир
1
Трир — одни из наиболее душных городов Рейнской провинции: скучный зеленый Мозель, густые леса, препятствующие набегу ветров, липкие испарения, туманы и тучи…
Омнибусы, дилижансы, кабриолеты и телеги спускаются в долину к Триру, либо взбираются на холмы, направляясь в сторону Кёльна. На почтовых станциях всегда есть ужин и ночлег для путников, овес и конюшня для лошадей.
Вдоль дороги, кое-где мощеной, встречается то распятие, то густо раскрашенная деревянная святая дева с младенцем на руках. В гуще деревьев прячутся католические монастыри.
В мае во всей провинции зацветают каштаны, акации и сирень, по нигде аромат цветущих деревьев не достигает такой пряной остроты, как в неподвижном воздухе затерянного среди холмов Трира.
Город живет строго размеренной жизнью: ровно в десять пустеют улицы, как бы ни пахли цветы и ни светили звезды.
…Два пешехода, вышедшие с Мясной улицы, ночной сторож да квартальный у полосатой будки были единственными живыми существами на площади Главного рынка в майский вечер 1834 года. Башенные часы укоризненно отсчитали четверть десятого и важно смолкли. Один из прохожих вынул золотую луковицу, проверяя время. Он подвинул стрелку длинным ключом.
Безлюдная прямоугольная площадь тускло освещалась керосиновыми фонарями.
На нескольких закрытых рундуках висели, как печати, огромные замки, под растянутым брезентом стояли стулья и корзины торговок. В центре площади возвышался фонтан, украшенный фигурой святого; четыре львиных головы по углам пьедестала равнодушно выплевывали воду.
Кое-где на мостовой валялись увядшие цветы и кожура фруктов. Площадь казалась мрачной, глухой.
Оживленно беседуя, прохожие обогнули площадь Главного рынка.
— Они обвиняют меня в превышении полномочий, — горячился один из них, размахивая черным, тщательно собранным зонтом. — Если вы помните, дело это касалось раздела изгородей общины Ирш. Сто четыре жителя остались мною недовольны и вот уже два года ведут тяжбу.
— Вам следовало бы апеллировать и добиться того, чтобы разбор дела перенесли из Трира в Кёльн, Генрих.
— Вы правы, этого я и хочу.
Приятели вошли в прихожую двухэтажного дома, освещенную керосиновой лампой, и аккуратно положили зонты и цилиндры подле множества других.
В низком, выкрашенном охрой зале, в густом табачном дыму, за газетой, чашкой кофе или кубком вина судачили десятка два мужчин в расстегнутых сюртуках. Эта комната и соседняя с ней, — где в полном безмолвии сидели игроки в вист, — были убраны с претензией на роскошь. На стенах висели литографии в дорогих рамах и портреты учредителей почтенного трирского «Казино».
Столы, как и стулья с высокими резными спинками, были из отличного дуба. На коричневом пианино покоились в футлярах две скрипки и кларнет: члены «Казино» ценили музыку. На этажерках вдоль стен лежали связки газет и журналов. С верхнего этажа доносились треск бильярдных шаров и споры игроков. Там же был зал, предназначавшийся для торжеств и банкетов по поводу прибытия знатных гостей или юбилеев наиболее почитаемых граждан и торговых фирм.
В большом зале нижнего этажа стояли подмостки и кафедра — на случай импровизированных концертов или деловых выступлений.
Жирная Эммхен — единственная женщина, постоянно прислуживающая в «Казино», — первая заметила пришедших и, приподняв поднос на уровень рогатого белого чепца, выговорила скороговоркой:
— Добрый вечер, господин доктор Шлейг! Добрый вечер, господин юстиции советник Маркс!
Вслед за Эммхен многие головы повернулись к дверям. Начались фамильярные взаимные приветствия.
Шлейг и Генрих Маркс заняли свои обычные места за столом возле кафельной печи. Оба они сидели на одних и тех же стульях, перед тем же столом едва ли не каждый вечер вот уже более десятилетия. Жители Трира отличались постоянством привычек.
Разговор в главном зале после девяти часов вечера обычно объединял всех присутствующих.
— Сегодня умерла старуха Рутберг и, вопреки надеждам родственников, оставила всего десять тысяч талеров. Из двух виноградников она завещала один своей горничной. Кто мог ожидать этого при ее скупости! — начал трирский нотариус.
Наследство госпожи Рутберг обсуждалось не более пяти минут.
— Положение в Париже остается тревожным: карлисты устраивают заговоры, на бирже сумятица, — сказал Шлейг, открывая газету.
— Мы в Германии, но крайней мере, не принуждены ежегодно ремонтировать города после пожаров и восстаний рабочих. А вот Лион отстраивается второй раз за последние три года. Признаюсь, я не поменялся бы теперь судьбою с самым богатым из тамошних буржуа.
— Вы предпочли бы стать гамбургским золотым мешком, — чуть улыбнулся Маркс.
— Еще менее того я, конечно, хотел бы быть лионским рабочим или владельцем тамошней мастерской, — продолжал Шлейг, не ответив на замечание друга. — Бедные люди просят хлеба, а получают пули. Опасная, однако, политика.
— Я имел удовольствие получить известие от многим здесь знакомого Бувье-Дюмолара, — начал мелодичным голосом судейский чиновник, встряхнув холеной, завитой бородой и приглаживая локон на лысеющем темени.
— Он кажется, служил у маршала Даву? — заинтересовался сидящий тут же пастор.
— Бувье-Дюмолар служил по соседству с Триром, в Кобурге, более двадцати лет назад и нередко бывал здесь. Я имел честь узнать просвещенного сановника в Кёльне, в превосходнейшем «Рейнском подворье», что на Сенной площади. Увы, он пишет, что даже смерть от холеры господина Перье не помогла ему вернуть утерянное благоволение короля. Л ведь в свое время, в дни первого Лионского восстания, он спас престол, предотвратив — уменьем и тактом — всефранцузскую революцию.
— Уход Дюмолара не доставил Ронскому департаменту спокойствия: восстания повторяются и префекты не задерживаются на месте, несмотря на то что угождают правительству, как только могут. Не много мудрости надо в наше время, чтобы править государством, но господин Гизо, видно, не имеет даже этой малости, — пробурчал Генрих Маркс, не выпуская изо рта трубки. — Кстати, что скажете, Шлейг, о заигрывании Луи-Филиппа с русским царем?
— К черту французов! — прервал юстиции советника патетический вопль, и учитель Хамахер вскочил на подмостки.
Доктор Шлейг, скользнув скучающим взглядом по суживающейся кверху фигуре, погрузился в чтение иллюстрированного журнала. Юстиции советник Маркс откинулся на спинку высокого кресла и медленно отпил красного вина. Его подвижные темные глаза, глубоко спрятанные под выпуклым лбом, иронически сощурились. Свободной рукой он механически поглаживал седеющую бороду. Здесь, среди светловолосых и белолицых людей, Генрих Маркс казался еще чернее и смуглее. Он будто сошел с висящей над пианино литографии, изображающей привал бедуинов у колодца в Сахаре.
Двадцатишестилетний учитель немецкого языка, самый молодой член «Казино», Вильгельм Хамахер, был неистовым патриотом немного, однако, устаревшей формации. Он все еще считал Францию главным источником бед и неурядиц на родине и не уставал предавать ее анафеме. В своих речах он неизменно воспевал значительно поблекший с годами «голубой цветок единения и свободы» и звал назад, к тевтонской культуре. Он носил старинное одеяние предков: бархатную блузу с огромным белым откидным воротником. Прическа, на которую учитель затрачивал не менее часа каждое утро, являла собой сложнейший беспорядок, который некогда — по его, Хамахера, предположению — царил на тевтонских головах, расчесываемых главным образом пятерней.