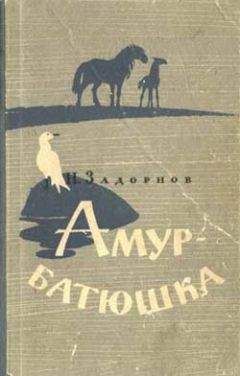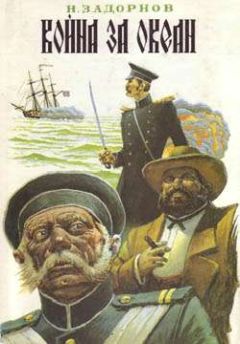Манфред Кюнне - Охотники за каучуком
4
Собор Парижской богоматери! Гордо вздымаешь ты готические своды над островом посреди Сены — седой исполин, не согнувшийся под тяжестью шести столетий; из твоих окон, словно из-под насупленных бровей, смотрят века. Застывшие в каменной невозмутимости башни, казалось, улыбнулись, приветствуя вернувшегося странника, изборожденное морщинами чело великана расправилось, будто уговаривая не покидать больше родины!
Париж устраивает Кондамину шумную встречу. Друзья жмут руки, обнимают, засыпают градом вопросов и восторженных восклицаний. Господа, некогда не замечавшие его, теперь милостиво кланяются или здороваются с преувеличенной любезностью. Годен и Пьер Бугер, которые всего четыре месяца как вернулись из Перу, неразлучны с ним.
Наконец страсти улеглись; он снимает тихую квартирку в Латинском квартале. Он все еще полон впечатлениями о великой тропической реке и своем пребывании в порту Санта-Мария-де-Белем[3]. Довольным взором окидывает он солидную коллекцию, привезенную из диких краев. Она едва помещается в большой комнате и выглядит в этом уютном окружении особенно необычно. Тут есть каменные топоры и ножи, сосуды, сплетенные из лыка ремни, деревянные трещотки, похожие на тогу накидки, раковины, наконечники копий и перья, охотничьи уборы, клыки ягуара, панцирь черепахи, маленький обтянутый кожей барабан, палочки с насечкой, дубинки и деревянные флейты, колчаны, куски коры, шнуры. Вот выдувная трубка. Вот отравленные стрелы, скелеты рыб, ступки для дробления кукурузы, терки. Висят отливающая зеленью змеиная кожа, кривой клюв и когти попугая, застреленного им во время путешествия. Есть здесь и череп тапира, который он сам очистил ножом от мяса и вываривал в течение нескольких часов. Есть орехи, дротики, семена дыни, пряжки, курительные трубки и циновки. Вот лежит подарок племени карликов — желтая высушенная человеческая голова величиной с апельсин, покрытая длинными волосами, приготовленная по всем правилам варварского искусства, а рядом с нею рыболовные сети и побеги бамбука. В металлической коробочке хранится смертельный яд для стрел. Разложены сосуды и факелы из каучука, скачущие шары. На полках — схемы и вычисления, рукопись книги о путешествии, написанной им в Белене.
Каждый трофей из тропического леса снабжен этикеткой, на которой указано его индейское наименование, происхождение, дата приобретения, название племени и практическое назначение. Теперь нужно еще расположить все предметы в определенной наглядной системе. Следует отдать в переписку отчеты, вручить их руководству Академии, сделать доклад и представить на рассмотрение астрономические вычисления. Нужно отнести рукопись к издателю, навестить Бугера, в соавторстве с которым он собирается опубликовать описание путешествия по Перу. Ему предстоит так много работы, что он совсем не рад посетителю, о котором докладывает ему как-то под вечер слуга.
— Доктор, вы! — восклицает он в изумлении, увидев вошедшего.
— Я прочел о вас в газетах, — говорит гость. — Значит, вы вернулись. Десять лет! Немало воды утекло.
Он садится, окидывает Кондамина быстрым взглядом, и на его серьезном лице появляется улыбка. Кондамин тоже оглядывает его. Этому человеку с пристально прищуренными глазами и высоким лбом сейчас лет тридцать пять; он страстный экспериментатор.
Еще тогда, когда Кондамин впервые познакомился с ним через одного из молодых членов Академии, Даллье поразил его своей одержимостью.
Стоило ему услышать, что какой-нибудь аптекарь во время опытов открыл неизвестное химическое соединение, как он готов был мчаться за тридевять земель. Его рвение просто поражает. Он словно одержим манией ломать голову над труднейшими загадками вещества, манией, которая окружает дымкой таинственности его самого. О нем болтают в Париже. Известно, что недалеко от столицы у него есть домик, где он живет и работает. Его постоянно воспаленные веки и мертвенно-бледные руки заставляют содрогнуться при мысли о ядовитых парах, которыми он дышит в лаборатории, устроенной на чердаке. Замечено, что доктор Жерар Даллье — так его зовут — изредка приезжает в Париж в открытом одноконном экипаже, чтобы купить у аптекаря необходимые реактивы.
Кондамин догадывается, что привело его сюда.
— Пойдемте, я вам кое-что покажу! — И ведет Даллье в соседнюю комнату, где помещается коллекция. Гость по очереди осматривает диковинные вещи, внимательно, но как будто без особого интереса. Он удивляется лишь при виде каучуковых шаров, подпрыгивающих по полу, и хочет знать, что это такое, откуда берется этот материал, как добывается сок, нужный для его изготовления, как выглядит каучуковое дерево.
— Оно довольно часто встречается в тех краях. Это вроде молочая, — поясняет Кондамин.
— А из каких веществ состоит этот материал?
Кондамин улыбается.
— Ну, милый доктор, это уж ваша сфера.
— Я исследую его! — восклицает Даллье.
Он расстегивает дорожную сумку, висящую у него через плечо, и, не спрашивая разрешения, кладет туда каучуковый шар.
— Я был уверен, что съезжу не напрасно, — говорит он затем. — Профессора в восторге от вашей коллекции. И они правы! Но я спешу…
Он откланивается. Кондамин подходит к окну и смотрит, как Даллье садится в экипаж, ждавший его на улице.
5
Еще никогда Даллье не трудился с таким упорством! Его мало трогало, что Кондамин обещал вскоре приехать с визитом. Всю свою жизнь он был необщительным и холодным, как куски металла, которые он клал в сосуды с кислотой, где они медленно, словно неохотно, растворялись. Медлительность, с которой природа, запертая в стеклянные стенки реторт, раскрывала перед ним свои секреты, заставляла его сгорать от нетерпения. Где уж ему проникнуть своим взором в глубочайшие тайны материи, когда его жизни не хватает, чтобы понять самые простые законы. Мысль об этом терзает его с тех пор, как, завершив медицинское образование, он решил посвятить себя химии. Антуана, дочь обедневшего провинциального дворянина, ненадолго внесла свет в его жизнь. Тогда он продал шесть земельных участков в Париже, оставленных ему отцом, и после свадьбы переселился с Антуаной сюда, в этот загородный дом, не втиснутый в узкие серые улицы, в которых похоронено десять лет его труда. Душа в душу жил он с Антуаной; потом она заболела. Уже тогда те немногие люди, с которыми он встречался, считали его неисправимым чудаком.
После смерти жены он почти совсем перестал выходить из своей лаборатории, забитой множеством сверкающих колб, бутылок и тиглей, разноцветными жидкостями, с каменной плитой и перегонным кубом. Мало заботился о Пьере — краснощеком веселом мальчугане, который каждое утро семенил рядом с няней по их обширному саду. Всячески избегал соседей, не наносил никому визитов и не принимал у себя. Неистовая, всепоглощающая страсть к познанию тайн естества помешала ему воспринимать жизнь сквозь призму своего горя, помогла обрести душевный покой, который не оставлял места для веселья, но сохранял его ум ясным и взгляд зорким.
И вот ранним утром он стоит перед очагом в своей лаборатории и кипятит раствор вещества, которое Кондамин назвал каучуком. День за днем он исследует его свойства, действует на него кислотами и основаниями, наблюдает, как оно реагирует на высокую и низкую температуру, нагревает его то быстро, то медленно, сжигает кусочек в реторте и принюхивается к дыму. Каждый опыт и каждый полученный результат тщательно заносится под особым номером в специальную тетрадь.
Он устанавливает, что каучук обладает поразительной стойкостью против всех кислот и оснований, и отмечает у него физические свойства, которых ученым не удавалось обнаружить ни у одного из веществ. Всю зиму он бьется над этой задачей. Худеет и замечает, что ему становится все труднее сдерживать нервную дрожь в руках.
Время от времени он спускается вниз и просит няню принести Пьера. Берет барахтающегося и весело визжащего малыша на руки и долго стоит, удивленно всматриваясь в ясное и свежее детское личико. И тут на этого бледного, осунувшегося человека находит приступ неудержимого веселья, — посадив Пьера себе на плечи, он, как лошадка, скачет по комнатам или выбегает на крыльцо, проносится по лестнице и галопом мчится с сынишкой по саду. Когда, тяжело дыша, он возвращается в дом, Пьер иногда просит:
— Еще разочек!
Но он отдает его няне и прощается, обещая:
— Завтра!
Давно стих резкий соленый ветер из Нормандии, шесть недель почти беспрерывно завывавший над заснеженными полями. Давно прекратился и частый сухой треск, с которым замерзавший сок разрывал ветви тополей, выстроившихся по обеим сторонам проселочной дороги. Солнце начинает проедать черные дыры в снежном покрове. Лишь по ночам вокруг дома еще иногда поет и гудит ледяной ветер.