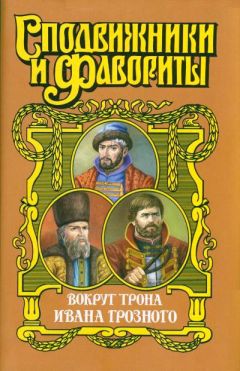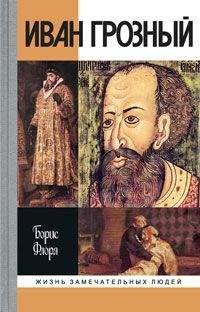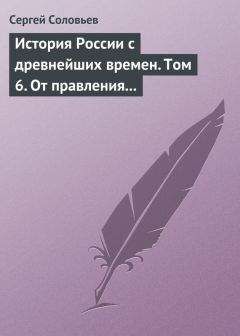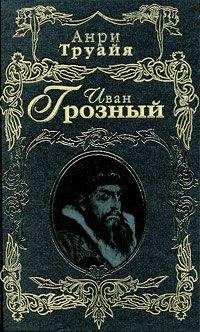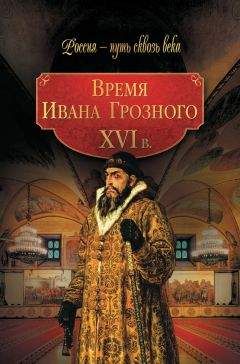Валерий Полуйко - Лета 7071
— В нарядных делах у нас немчин голова. Он слал кружало.
— Допытал я вашего немчина. Ты велел ему мерить пушки наружным краем кружала, а кузнецы исстари куют по нутру. Уж ли не знал ты сего, воевода?
— Не тебе допытывать меня! — надменно проговорил Пронский. — Ежели винен — пред царем отвечу!
— Царь не станет уж допытываться! Все ваши изворотки ему ведомы доподлинно. Оплели все своей паучьей паутиной… Порвет он ее теперь. А мы ему споможем!
— Кто ж такие — мы?..
— Которые не о животе своем пекутся и чести, а об отечестве нашем. Много бед свалилось на него чрез вас.
— Красно баешь, Басманов! Будто пред царем место выговариваешь!
— Воеводы! — опять вмешался Серебряный. — Срам смотреть на вас!
— А ты не глядел бы!.. злобно огрызнулся Пронский, — Уйди!
— Ушел бы, — сказал примирительно Серебряный, да погрызетесь!.. А дела не сговорите! Вот ты винишь Пронского в злых умыслах, на всех бояр царской опалой нахваляешься, — обратился он к Басманову, — а разве бояре царю враги? Ну разошелся царь с боярами, так замирится! Как ты тогда в глаза всем смотреть станешь?
Дрогнули зрачки у Басманова, опустил он глаза… Серебряный понял, что попал в самое уязвимое место.
— Ежели не по злому умыслу отослал он сие кружало, так пусть докажет! — более обращаясь к Серебряному, чем к Пронскому, сказал Басманов.
— То ж как я докажу? — растерянно и удивленно воскликнул неожиданно присмиревший Пронский и зачем-то поозирался по сторонам.
— Кони старицкие кованы худыми гвоздями: от пяти верст подковы отваливаются…
— Не я их кую, гвозди те! — опять удивился Пронский. — Да и под каждо копыто не заглянешь!
— Гвозди в огне перепалены! — сурово бросил Басманов. — Твоих воевод допытать хотел — они мне не повинились! Твое на то слово было — не виниться большим воеводам без княжеского указу.
— То исстари у нас ведется, — засмеялся Пронский. — Мы не государские, мы удельные.
— В порохе ямчуги 12 недостает — тоже исстари ведется?
— Пороху надобно много, а с Белоозера ямчугу неспешно везут… Оружничий и сообразил на меру по щепоти убавить.
— Пошто же тверские и новгородские добрый порох доставили?
— Так на Старицу более всего по росписи идет: в ядер и пороху…
— А кружало, однако, ты послал, — вдруг осек Пронского Басманов.
— Может, ты меня еще на правеж поставишь? — снова вскипел Пронский.
— Вот и докажь!.. По совести сделай, чтоб себя обелить. — Басманов помедлил, словно бы испытывая Пронского: возмутится тот на обвинение или смолчит, примет его… Пронский смолчал. Ободренный этим, Басманов договорил: — Своей казной перекуй все ядра.
— Своей казной?! — ужаснулся Пронский. — Ты в своем ли уме? Где я возьму таковую казну? Не сам же я рублю рубли?!
— Ядра непременно надобно перековать, — сказал Серебряный. — Триста дюжин — великий счет!
Нет у меня таковой казны, — упорствовал Пронский.
— Не хочешь по совести и по добру — будет по злу. Я не властен над тобой, воевода, можешь ехать прочь… Токмо ведай — быть тебе в ответе!
— Перекуй, воевода, ядра, — наступал на Пронского уже и Серебряный. — Перекуй! Своей головы не щадишь — чужие пожалей!
Пронский помолчал, пораздумывал, а может, просто подразнил своим молчанием и Серебряного и Басманова, которые были ему сейчас одинаково ненавистны, и бросил язвительно:
— Перекую!
7У Махони Козыря, заплечных дел мастера, днем работы не было. Работа его начиналась вечером, когда изо всех полков шли к нему под розги и плети провинившиеся за день воинники и посошники.
За неимением потребного места Махоня справлял свое дело в бане. Тут же коротал он и дневное время, сидя в предбаннике и ожидая, пока кто-нибудь не позовет похлестать веником спину. Платы за это он не брал, но просьбу исполнял старательно. Так же старательно он исполнял и свою основную работу.
По всей Руси знали Махоню: он сек и новгородских, и тверских, и псковских, и рязанских, сек в Казанском походе, сек в Астраханском, сек в Ливонском, теперь сечет в Литовском.
Махоня был добр, покладист, но на руку тяжел. Больше двух дюжин плетей от него никто не выдерживал. Сек Махоня простолюд: ратников, десятских, случалось, и сотских, но до дворянской или боярской породы его не допускали. Тех больше брали мытарством… Мытарить же Махоня не умел. Махоня сек, да так, что даже дубленые мужичьи спины лопались под его плетью, а попадись ему на лавку боярский сын или дворянчик — не ужить бы ему и до дюжины…
Саженистый в плечах, увалистый, как боров, Махоня был невысок ростом, но с длинными, почти до колен руками, безбородый, с маленьким лицом и маленькими глазками… Татарская примесь выдавалась в нем явно. Подсмеивались над ним насмешники:
— Ты, Махонь, ни в козла, ни в барана, ни в черного врана!
— Дык… сам я себя вытворял, что ль?! — беззлобно говорил Махоня и всегда одинаково. — Бог меня вытворял!
По целым дням сидит он в предбаннике, размачивая в кадке розги и гутаря с банящимися. Всех он привечает, ко всем с лаской, будто все ему приятели или родичи, и квасу подаст, и кафтан подсобит надеть, а только никого он в лицо даже не знает. Зато все знают его, а которые не знают, впервой видят — все равно с ним как приятели.
— Махонь! — позовет кто-нибудь из парной.
— Эге! — негромко отзовется Махоня и насторожит ухо.
— Похлещи-кось, Махонь!..
— Похлещу, — спокойно скажет Махоня, не спеша встанет с лавки, выберет по руке веник, пойдет распаривать в котле. Отхлестав, вернется в предбанник — взмокший, рдяной от пара, с тяжелой одышкой, выпьет жбан квасу, снова усядется на лавку и непременно начнет поучать:
— Поперек хребта не ходь веником! Жги не будя! Погуляй перво промеж лопат да по хребту — жга и проймет, аж до самых ребер!
— От твоих плеток жга небось до самых кишок пронимает?
— Се кому как! Кой по-зряшному страдает, тому лихо! Кой по заслуге — тому как с женкой на полатях!
Так и сечет Махоня спины: днем — веником, вечером — плетьми и розгами.
Вечером, лишь отслужат молебен в полках, бегут к нему наперегонки провинившиеся. Каждый старается прибежать первым — первого Махоня не сечет. Таков у него обычай. Не сечет он и последнего… Но последним быть непросто — тут уж как бог даст.
Идут к нему и пехотные людишки, идут посошные, случается, и конный заработает розог, но совсем редко: конным в войске вольготье, не то что пехоте. Пехотные всегда терпят самые большие лишения, и дерут их почем зря из-за каждого пустяка: то по нужде сходит не там, где надо, то кусок хлеба припрячет на черный день, а десятский вытрусит, то тот же десятский застанет за игрой в кости — и за все розги! Храпишь ночью — розги, прозевал огонь под котлом — розги, отлучился не вовремя — розги. Не послушал с первого слова десятского или сотского — плети! За драку и брань меж собой — плети, а если мародерствуешь — и под палки поставят. Украл петуха или курицу — пять палок; украл поросенка иль овцу — дюжину, а за барана и все две, да еще в уплату алтына три, которые положит казна, а за них, ежели не ляжешь животом на поле брани, отрабатывать надобно после похода.
Посошных секут реже — они вне войска: строгостей у них меньше, и надзор за ними послабей. У посошного одно дело — подай или подвези. Не поспел вовремя — старшина съездит в зубы, и дело с концом. Каждый старшина бережет спины своих людишек — на посеченный горб много не взвалишь. А ежели еще Махоня погуляет — неделю к спине тряпье прикладывать нужно. Оттого и остерегаются посошные старшины слать под розги своих посошников — за великую провинность только отсылают к Махоне. Чаще попадают к нему ездовые: то коня перепоили, то овес утащили да на брагу сменяли или на колеса вовремя дегтю не положили… Заскрипит колесо — а остановиться боже упаси, — и старшина тут как тут, и крутым матом да батогом через спину… А если не в духах — без мата и без батога, смиренно, как Никола-угодник, скажет:
— Вечером-кось, явись!..
Вечером, еще более не в духах, позабыв, кто в чем виноват, начинает допытывать явившихся:
— Чем винил?
— Колесо затер: дегтю не положил…
— Врешь, братец… А ежели и не врешь — все едино, чтоб поприглядистей был. Давай-ка лоб!
Поставит старшина мелком на лбу метку — чертку: всыпет Махоня за эту чертку дюжину розог. Две чертки — две дюжины. За три — три дюжины! Ежели поставят на лоб крест — получать плети. За один крест — полдюжины, за два — полную. Иного счета нет — исстари уложено, и исстари неизменно все так и ведется. Десятские, и сотские, и тысяцкие, и головы стрелецкие, и даже воеводы — все метят провинившихся чертками и крестами.
Так и идут виновные к Махоне с мечеными лбами. А ему большого ума не надо: поглядит на лоб и отстегивает ровно по метке. Шельмовать не шельмуют. Всякий метчик, старшина то иль десятский, иль сам воевода, поставит метку и непременно скажет: