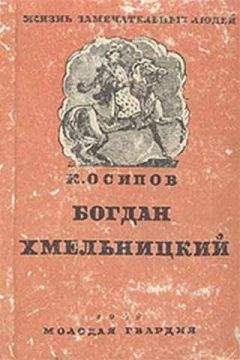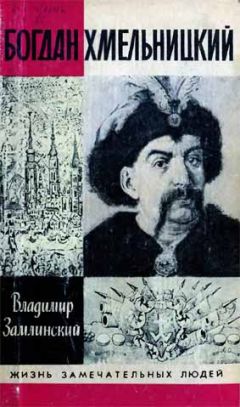Генрик Сенкевич - Потоп. Том 2
Но еще опаснее масленичных поездов, да и самих татар, было для шведов крестьянское движение. Давно уже, с первого дня осады Ченстоховы, заволновался народ, смирные доселе и долготерпеливые пахари стали там и тут подниматься на врага, хвататься за косы и цепы и помогать шляхте. Те шведские генералы, которые умели предвосхищать события, наибольшую опасность видели именно в этой туче, ибо, разразившись, она могла обратиться в настоящий потоп и поглотить захватчиков без остатка.
Устрашение непокорных казалось шведам главным средством для подавления в зародыше грозной опасности. Карл Густав еще осыпал милостями польские хоругви, которые отправились с ним в Пруссию, еще заискивал перед ними. Он расточал льстивые речи хорунжему Конецпольскому, знаменитому полководцу, герою Збаража. Конецпольский перешел на его сторону с шестью тысячами несравненной конницы, которая при первом же столкновении с курфюрстом так устрашила пруссаков и внесла такое опустошение в их ряды, что курфюрст, прекратив сопротивление, поспешил вступить в переговоры.
Слал еще шведский король гонцов к гетманам, магнатам и шляхте с милостивыми посланиями, полными посулов и призывов хранить ему верность. Но в то же время он уже отдавал приказы своим генералам и комендантам огнем и мечом подавлять всякое сопротивление внутри страны, особенно же беспощадно истреблять крестьянские ватаги. Так началась в стране власть железного солдатского кулака. Враг сбросил личину. Огонь и меч, грабеж, притеснение пришли на смену прежнему притворному благоволению. Для преследования масленичных поездов из замков были посланы сильные отряды конницы и пехоты. Целые деревни сровняли они с землею, жгли шляхетские усадьбы, костелы, дома ксендзов. Шляхту, захваченную в плен, отдавали в руки палачей, мужикам рубили правую руку и одноруких отпускали домой.
Особенно зверствовали эти отряды в Великой Польше, которая первой покорилась врагу, но и первой поднялась против иноземного ига. Комендант Стейн приказал однажды отрубить правые руки сразу тремстам мужикам, схваченным с оружием в руках. В городках были поставлены виселицы, и каждый божий день на них вздергивали новые жертвы. Магнус де ла Гарди учинял такие же расправы в Литве и Жмуди, где за оружие взялись сперва застянки, а затем и крестьяне. А так как во всеобщем смятении шведам трудно было отличить своих сторонников от врагов, то они не щадили никого.
Но огонь, поддерживаемый кровью, вместо того чтобы потухнуть, разгорался с новою силой, и началась война, в которой обе стороны не искали уже побед, не думали о захвате замков, городов или провинций, а дрались не на жизнь, а на смерть. Зверства усиливали ненависть, и люди не сражались, а уничтожали друг друга безо всякой пощады.
ГЛАВА XXI
Эта война на уничтожение еще только начиналась, когда совсем больной Кмициц после трудного для него путешествия добрался с троими Кемличами до Глоговы. Приехали они ночью. Город был переполнен войсками, магнатами, шляхтой, королевской и магнатской челядью, а корчмы до того набиты народом, что старый Кемлич насилу нашел пану Анджею квартиру у сучильщика, жившего за городом.
Весь день пан Анджей пролежал в жару, жестоко страдая от ожога. Минутами ему казалось, что он заболел тяжело и надолго. Но железная натура победила. На следующую ночь ему стало легче, а на рассвете он уже оделся и отправился в приходский костел, чтобы возблагодарить создателя за свое чудесное избавление.
Мглистое и снежное зимнее утро едва рассеяло мрак. Город еще спал; но в отворенные двери костела уже виден был свет перед алтарем и лились звуки органа.
Кмициц вошел внутрь. Ксендз перед алтарем совершал литургию; в костеле было еще мало молящихся. Между скамьями, укрыв лица в ладонях, стояло на коленях несколько человек, а когда глаза пана Анджея привыкли к темноте, он увидел, кроме них, еще фигуру, лежащую ниц перед самым амвоном на коврике, постланном на полу. Позади стояли на коленях два румяных, как херувимы, мальчика. Человек лежал недвижимо, и только по тяжелым вздохам, вздымавшим его грудь, можно было понять, что не спит он, что молится жарко, всей душой. Кмициц тоже стал усердно молиться; но когда он кончил читать свои благодарственные молитвы, взор его снова невольно обратился на человека, лежащего ниц, и он, как зачарованный, не мог уже отвести от него глаз. От вздохов, подобных стону, явственно слышных в тишине костела, сотрясалось все тело незнакомца. В желтом отблеске свечей перед алтарем, мешавшемся с дневным светом, который лился в окна, фигура его все отчетливей выступала из тьмы.
По одежде пан Анджей тотчас догадался, что перед ним кто-то из сановников, да и остальные молящиеся, и сам ксендз, совершавший литургию, смотрели на него с почтением и трепетом. Незнакомец был в черном бархате на соболях, только на плечи был откинут белый кружевной ворот, из-под которого выглядывала золотая цепь; черная шляпа с такими же перьями лежала рядом, а один из пажей, стоявших позади на коленях, держал перчатки и шпагу, покрытую голубой финифтью. За складками коврика Кмициц не мог разглядеть лица незнакомца, да и букли необыкновенно пышного парика, рассыпавшись вокруг головы, заслоняли его совершенно.
Пан Анджей приблизился к самому амвону, чтобы посмотреть на незнакомца, когда тот встанет с колен. Литургия между тем подходила к концу. Ксендз пел уже «Pater noster»[5]. Толпа народа, желавшего помолиться у поздней обедни, текла через главный вход. Костел постепенно наполнился людьми с подбритыми чуприной головами, в плащах, солдатских бурках, шубах, кафтанах золотой парчи. Стало довольно тесно. Кмициц дотронулся до локтя стоявшего рядом шляхтича и шепнул:
— Прости, вельможный пан, что мешаю тебе молиться, но уж очень мне любопытно знать, кто это?
И он показал глазами на человека, лежавшего ниц.
— Ты, милостивый пан, видно, издалека приехал, коль не знаешь, кто это, — ответил шляхтич.
— Это правда, приехал я издалека, потому и спрашиваю, надеюсь, человек учтивый не откажется мне ответить.
— Это король.
— О, боже! — воскликнул Кмициц.
Но в эту минуту ксендз начал читать Евангелие, и король поднялся с колен.
Пан Анджей увидел осунувшееся, желтое и прозрачное, как церковный воск, лицо. Глаза короля были влажны, веки покраснели. Словно судьбы всей страны отразились на этом благородном лице, такая чувствовалась в нем боль, такое страдание и тоска. Бессонные ночи, которые король проводил в печали и молитве, жестокие разочарования, скитальческая жизнь, униженное величие этого сына, внука и правнука могущественных королей, горечь, которой так щедро напоили его собственные подданные, неблагодарность отчизны, за которую он готов был отдать свою жизнь, все это, как в книге, читалось в его лице. Но оно дышало не только решимостью, обретенною в вере и молитве, не только величием короля и помазанника божия, но и столь необыкновенной, неиссякаемой добротой, что казалось, довольно самому подлому, самому злому отступнику простереть руки к нему, своему отцу, и он примет его, простит и забудет свои обиды.
Когда Кмициц поглядел на короля, будто кто железной рукой сдавил его сердце. Жалость закипела в пылкой душе молодого рыцаря. Сокрушеньем, трепетом и тоской стеснилась его грудь, от сознания собственной вины подкосились ноги, он весь задрожал, и внезапно новое, неведомое чувство проснулось в его душе. В одно короткое мгновение полюбил он венценосного страдальца, почувствовал, что нет для него на всем свете никого дороже отца и государя, что готов он кровь пролить за него, пытки стерпеть, все на свете. Он хотел броситься к его ногам, обнять его колени и просить о прощении. Шляхтич, дерзкий смутьян, умер в нем в это короткое мгновение и родился ярый приверженец короля, всей душою преданный ему.
— Это наш государь, наш несчастный государь! — повторял он, словно вслух хотел подтвердить то, что видели его глаза и чуяло сердце.
Между тем Ян Казимир после Евангелия снова опустился на колени, воздел руки, устремил очи горе и погрузился в молитву. Уж и ксендз ушел, и движение поднялось в костеле, а король по-прежнему не вставал с колен.
Шляхтич, к которому обратился Кмициц, толкнул теперь в бок пана Анджея.
— А ты кто будешь, милостивый пан? — спросил он.
Не сразу понял Кмициц, о чем его спрашивают, и не вдруг ответил он шляхтичу, настолько сердце его и ум были поглощены королевской особой.
— А ты кто будешь, милостивый пан? — снова спросил шляхтич.
— Шляхтич, как и ты, вельможный пан, — ответил пан Анджей, словно пробудившись ото сна.
— А как звать тебя?
— Как звать? Бабиничем зовут меня, а родом я из Литвы, из Витебска.
— А я Луговский, королевский придворный. Так ты едешь из Литвы, из Витебска?
— Нет, я еду из Ченстоховы.
От удивления Луговский на минуту онемел.