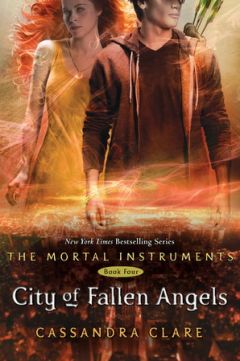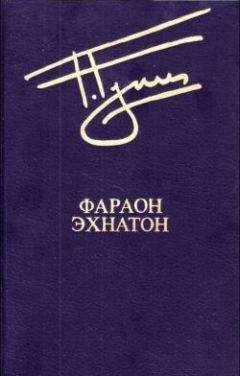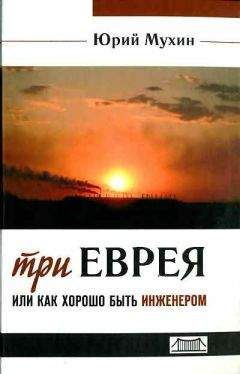Юрий Давыдов - Глухая пора листопада
«Отче наш» не успели прочесть: пароход затрясся, рванулся, опять что-то совсем рядом заскрежетало и отозвалось длинным громким стоном. Арестанты, завопив, повалились в кучу. Погас свет. Умолкли, канув в океан, мерные удары винта. И тотчас с грозной обнаженностью приблизился накат волн.
Каторжане не заметили, как священник, подхватив рясу, юркнул за решетку, как, взбегая по трапу, пересчитал лбом железные ступени. Люк отворился, блеснул – очень ярко – отсвет фонаря, люк захлопнулся. И этот яркий отблеск, этот веский стук крышки, окованной медью, взорвал каторжан:
– Дно прошибло!
– Тонем!
– То-о-о-онем…
Сизов давно вскочил на ноги. Он чувствовал такое же бессилие, как и его сотоварищи, он тоже что-то отчаянно и дико орал… Крик и сумятица сменились немотою. Все прислушивались, подаваясь друг к дружке, нашаривая руку, локоть, плечо соседа.
Наверху топали матросы. Резко, отрывисто свистал боцман. Сизов узнал голос своего врага, старшего офицера. Что он там командует, падло?
Топот нарастал, шла какая-то возня. А в трюме вдруг засипело, забулькало. И опять взвыли каторжане:
– Отвори-и-и-ите…
– Люки отвори-и-те…
– То-о-о-онем…
– Вода-а-а-а…
Кто-то бросился к решетке. За ним – еще и еще. И вот уж десятки яростных рук трясли железные прутья. Люди, давя друг друга, ничего уж не соображая, матерясь, кляли начальство, судьбу, все на свете.
«Ну, конец», – подумал Сизов, и ему нестерпимо стало жаль себя. Он съежился на нарах и жалел себя, однако не всю жизнь свою, не вообще свою жизнь, а себя жалел – за то, что довелось вытерпеть в этой плавучей тюрьме.
«Зачем? Заче-е-ем? – длинно и смутно, как вытянутые ветром хвостатые тучи, проносилось в голове Нила. – К чему-у-у?» Он ждал, нет, он требовал ответа. Все теперь для него сошлось, связалось именно в этом ответе, который Сизов требовал невесть от кого и для чего.
Без малого год назад, вскоре после «покушения» на прокурора московской судебной палаты Муравьева, участь Нила Сизова была решена. Г-н Плеве порадел Муравьеву: с Сизовым покончили в «административном порядке», без суда, на котором могла бы всплыть темная шулерская провокация.
Г-н Плеве не грешил противу своей компетенции: «административным порядком» ведала политическая полиция. Спровадив «дурака мастерового» в распоряжение главного тюремного управления, Вячеслав Константинович оговорил, что Сизова, человека неинтеллигентного, надобно уберечь от тлетворного воздействия государственных преступников и, стало быть, содержать в уголовной каторге.
Таким вот образом осмотрительный г-н Плеве порадел и Муравьеву и Сизову. Первому ради будущих служебно-карьерных ситуаций; второму – ради государственного интереса, диктующего разобщение заблудших овец и матерых козлищ.
Правда, вышла формальная заминка. Главное тюремное управление попросило его превосходительство распорядиться, чтобы в документах на Сизова, в так называемом статейном списке, не указывалось, за какое именно преступление он наказуется. Просьба объяснялась тем, что закон все же разграничивал политических и уголовных.
Формальную заминку Плеве одолел с той легкостью, с какой одолевают подобные пустяки руководители русской полиции. Не указывать род преступления? Экие крючкотворы, хе-хе. Ну что же, извольте, сделайте одолжение. И Нил Сизов оказался ровней уголовным.
Ведомственное соглашение осталось неведомо Сизову. Оно и к лучшему. Велика ли радость знать, кто вершит твою судьбу, если вершит ее некто, не ты? Сизов только удивился, что его не потащили к судьям. В заочных, административных решениях можно, ничуть их не оправдывая, отыскать малость положительного: заключенный, измученный тюрьмою, дознанием и ожиданием, избавляется от муки судоговорения, от той правды и той милости, которым велено царить в судах. И Нил Сизов не огорчился, что его не потащили к судьям. Больше того, он вроде бы испытал удовольствие: все, мол, определилось и закончилось. И это чувство слилось с напряженным, но уже не изматывающим ожиданием – ожиданием перемен, хотя бы пространственных.
Из Питера отвезли Сизова в родимую Москву. Он вновь очутился в Бутырках. Теперь уже не в следственной камере, а в одном из тех помещений нижнего этажа, где накапливалось этапное поголовье.
Наравне с прочими получил Сизов арестантский «полняк» – ношеный-переношеный нагольный полушубочек, две пары котов да пару нательного белья, онучи холщовые и онучи шерстяные, рукавицы, мешок, шапку. И опять, как после «административного решения», Сизов не обреченность чувствовал, а что-то близкое к удовлетворению, словно путник, снарядившийся в дорогу. Черт возьми, какая она там ни будь, что там ни случись, а все ж дорога.
Странно, быть может, но Сизову не терпелось оставить город, где родился и вырос, где жила мать, рядом жила, от Бутырок рукой подать. Свидания ни с матерью, ни с Саней он не добивался. И не потому, что был уверен в отказе. Нет, ему действительно не хотелось того, о чем он так жадно и неотступно мечтал совсем еще недавно.
Нил уже не принадлежал минувшему. Минувшее не умерло для него, он сам для него умер. Так он думал, так чувствовал. То ли заразившись общей забубённой веселостью уголовного этапа, то ли утвердившись в положении «отрезанного ломтя», Сизов желал и ждал скорейшего расставания с Москвою. Со всем, что Москва для него значила.
Но вот ворота нараспашку, и арестантская партия – колонной, шестеро в ряд, об руку, горбачи с мешками, – партия зашмякала по весенней грязи, и мальчишки, то навыпередки, то приотставая, побежали рядом с конвойными.
Свежо и мягко повеяло талым уличным снегом, кругло и желто пахнуло конским навозом, треща крыльями, снялись с колокольни голуби, показались вольные люди, прокатила конка… У Сизова ослабели ноги. Он озирался с отчаянным недоумением. Только сейчас, вот теперь, в колонне, шмякающей по весенней грязи, Нил сознал, насквозь прочувствовал, что она для него значила, Москва…
Потом, на вокзале (вернее, в стороне от вокзала, на запасных путях), Нил старался все высмотреть, за всем доглядеть, все упомнить. Он словно бы никогда не видел ни закопченной мрачности депо, ни винной красноты водокачки, ни кирпичных, в пятнах пакгаузов, ни маслящихся стрелок.
Сизов не замечал, как арестанты, бранясь и пихаясь, лезут в вагоны, хотя лез вместе с ними, не слышал понуканий и окриков конвойных, которые, как всегда при посадке иль высадке этапной партии, никчемно и злобно суетились.
Сизов озирался, оглядывался до последнего мгновения. И последнее, что заметил, последнее, что запечатлелось в памяти, – взгляд мастерового. Человек этот был немолод, морщинист, в картузе блином, с ящиком, где инструмент, в руках. Он смотрел на арестантов, смотрел с угрюмым, почти мученическим состраданием.
И уже поезд пошел, как локтем отодвигая Москву, уже поезд шел в забелевшем, раздавшемся в стороны дне, и уже Нил умостился в тесноте, в табачном дыму, а его все еще провожал, прощаясь с ним, мастеровой, угрюмо сострадающий дядька…
Приехали к Черному морю. Одесса казалась яркой, хоть жмурься. Арестантов пригнали в карантин, пропахший карболкой. Собралась комиссия: лекари в военных сюртуках, члены городской думы. Солдатский конвой сменился матросским.
Голые арестанты, прикрыв срам бурыми мужицкими руками, тянулись, как рекруты, к длинному столу. Медики повторяли: «Годен… Годен… Годен…» Члены комиссии помечали что-то в статейных списках.
Во всей процедуре Сизов ощутил унизительное, рабовладельческое, но не взволновался и не озлился. Он решил подчиняться «положенному». То не были покорность, смирение, то было сметливое благоразумие. Он берег себя, свои душевные и физические силы.
В его нарочитой, заданной самому себе «бережливости» таилось желание уцелеть, сохраниться, не иссякнуть. Зачем? Ведь все потеряно и все кончено. Для чего? Ведь впереди десятилетняя каторга, и ты не знаешь, выживешь ли в цепях, выживешь ли на далеком гиблом острове… Но в душе Сизова, как у всякого арестанта, даже бессрочного, уже работала скрытая пружина надежды. Она начинает действовать исподволь, будто бы мимовольно, едва тюремный арестант обращается в этапного арестанта.
Будущее словно бы и не занимало Сизова. Но он уже, хоть и мельком, хоть и непристально, хоть и с долей насмешки над собою, нет-нет да и думал о будущем. Каторга не была будущим. Мысль переносилась через каторгу, перепрыгивала каторгу. Будущее было потом, после нее, за каким-то мрачным и смутным горизонтом. И там, в этом потом, за этим горизонтом уже находилось место для Сашеньки. (Верность ее была Сизову чем-то безоговорочным, несомненным.) И даже находилось место «родионовскому»; оно вспоминалось не книжностью, не слышанным изустно; да и вообще-то, кажется, и не вспоминалось, а словно бы поселилось в самом существе Сизова, потому что впервые после «родионовского» все его существо прониклось не верой, а уверенностью, не частностями, не горячностью, а именно уверенностью в его, Сизова Нила, причастности к чему-то огромному и неодолимому…