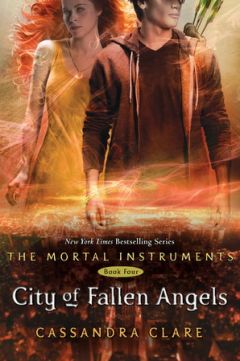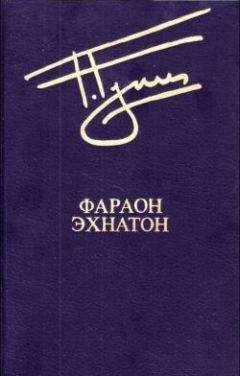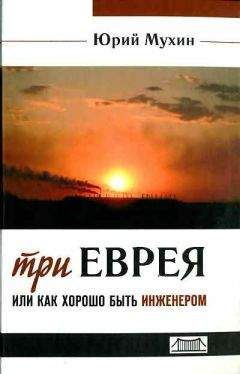Юрий Давыдов - Глухая пора листопада
Но сейчас, на грязном, липком перроне, когда оставались минуты (их гулко, с присвистом выдыхал локомотив), сейчас Тихомиров растерянно улыбался жене и сыну, кивал и отвечал им, не сознавая, что они говорят. Он озирался, точно искал кого-то, точно потерял что-то.
Он не ликовал. И не потому лишь, что Катя с Сашурой временно оставались в Париже. Все в нем смешалось, подернулось знобящей мглою.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
– Было время, господа судьи, и зал суда был на Руси единственным местом, где раздавалось громкое и свободное слово. Где люди, отправляясь на смерть, высказывали свои думы, стремления, надежды. Где они излагали критику существующего порядка. Но, господа судьи, это время миновало. Правдивые, горячие речи говорить здесь не для чего… В застенках нас морят, в застенках и «выслушивают» наше последнее слово. Ни одно сердце (и мы это знаем) не забьется в ответ, самый отзвук бесследно замрет в этом зале…
В зале было душно. Солнечный столб, полный пыли, падал косо. Два генерала и гвардейские штаб-офицеры – члены военного суда – слушали Лопатина. «Последнее слово» определено законом. Приговор еще не решен, а уже предрешен. Но «последнее слово» приходится выслушивать. И два генерала, гвардейские штаб-офицеры слушают Лопатина.
– И все же я выскажусь. Вас я не могу признать законными судьями. Вы представляете заинтересованную сторону. И не вам судить трезво, без пристрастия. Но я верю… Это моя единственная вера. И она утешает… Я верю в высший суд Истории. Он надо всеми нами и над вами тоже, господа. Вот ввиду этого я не буду защищаться.
Два генерала и гвардейские штаб-офицеры слушали «последнее слово». Оно предусмотрено законом, и посему пусть говорит этот Лопатин. Приговор еще не решен, приговор уже предрешен. Пусть говорит, как говорили и другие подсудимые. Это их право. Военный суд слушает «последнее слово».
– Я не стану не только защищаться, но даже объяснять вам истинный смысл того, что я сделал. Объясню только, почему во все время предварительного дознания, во время судебного следствия я не признавался… Не признавал себя членом партии «Народная воля», официальным агентом Исполнительного комитета. Теперь скажу откровенно: да, я был таким агентом. Совершенная правда, что я говорил прежде: моей натуре претило налагать на себя оковы какой бы то ни было обязательности. Ограничиться рамками определенной программы… Но мне, человеку не бесславного прошлого, сделали уступки… Итак, почему же я упорно не признавал себя членом партии перед лицом врага? Не хотел связывать свою волю. Многое мне нельзя… Многое я не имел бы права высказать из того, что высказал как частное лицо. Затем… Ну что ж, пусть вот так. Затем вы еще должны помнить, господа судьи, что я, до того времени гордый безупречным прошлым, потерпел такое ужасное, такое позорное поражение. Я имею в виду эти несчастные адреса. Эти несчастные бумаги и записную книжку. Ведь я… Ведь я собственной рукой погубил, что создал другой рукой. Да, это было… Это было ужасное поражение. Искупить его мне удалось только отчасти… Впрочем, искупить мне… Ну хорошо, оставлю. И вот после ужасного, позорного, повторяю, поражения я не мог, не имел духа открыть… Открыто признать себя членом Исполнительного комитета. Теперь, когда, быть может, уже недолго биться моему сердцу, я даю такое признание… Тут все время о Судейкине… Мне совершенно безразлично в данную минуту, признаете ли вы меня участником убийства Судейкина. Может, я им был, может, я им не был. Во всяком случае, вы немного возьмете на свою совесть, если признаете, что я участвовал в этом убийстве. Нравственным соучастником был. Но что бы я ни сделал, жалею только об одном… Я жалею, что сделал мало. Пощады я просить не желаю. Уверен, что сумею умереть мужественно.
Приговор был предрешен. И решен. Генерал-майор читал по бумаге. Впрочем, то звучал не приговор. Военные объявляют резолюции. Resoluto означает: смело, решительно. Генерал-майор читал твердо, решительно, смело.
Потом Лопатин расслышал тупое щелканье портсигаров: усталые генералы и полковники угощались папиросами. Они очень устали, господа военные судьи: было далеко за полночь. Двадцать одну душу получил военный окружной суд от департамента полиции и губернского жандармского управления. Десятерых суд отдал на закланье.
Издревле на закланье отдавали первенцев. Богов было много, боги жаждали крови. Потом отдавали преступников. Но бог уж был един. И он не жаждал крови. «Милости хочу, а не жертвы».
Генералы и полковники не хотели жертв. И не хотели милости. Они просто вынесли резолюцию. И удалились – к женам и детям, в полки Измайловский, Преображенский, Новочеркасский, к своим повседневным обязанностям, к своим огорчениям и радостям, наградным и аттестациям, насморкам и колитам.
У жандармского ротмистра был чистый взор. Он не хотел жертв. Ротмистр скомандовал: <<Са-абли вон! Ша-агом арш!» Он конвоировал. И стражники не хотели жертв. Они берегли осужденных, дабы «не учинили себе какого дурна». Берегли от незаконного самоубийства ради законного убийства.
Впрочем, слово «убийство» не произносилось. Ни вслух, ни мысленно. Произносилось: «Повесить». Будто речь шла о ватерпуфе, пальто, плаще. Никто не говорил и не думал: вот такой-то человек, называющийся палачом, в присутствии таких-то людей, называющихся прокурором, врачом, офицером, удавит такого-то человека, называющегося преступником. Не убить, не удавить – повесить. Но в тайном стремлении вытравить страшную обыденность слова изъяснялись: «Подвергнуть смертной казни через повешение».
Куранты Петропавловской крепости вызванивали над императорскими гробницами. Гробницы были немы, прах не подвластен времени. Куранты отзванивали заключенным в равелинах и куртинах. Звон был вещим: он предрекал смерть Лопатину и Якубовичу, Стародворскому, Конашевичу, их товарищам.
Разжигая костер, инквизиторы стригли и брили еретиков, давали чистое исподнее, кормили хорошим завтраком и позволяли промочить горло стаканчиком доброго винца.
Лопатина ждали цирюльник, свежее белье, сладкий чай с белой теплой булкой.
Еретиков сажали на осла спиною вперед. Перовскую везли на позорной колымаге спиною вперед. В связанные руки еретиков втыкали зеленую свечу.
В России вязали руки, но обходились без свечей.
У высоких костров исповедник обещал еретику незримую корону мученика. Православный поп, поднимаясь на высокий эшафот, ничего не обещал осужденному.
Куранты мерно вещали: вот идут за тобою, Герман Лопатин. Но самое время, как Лопатину казалось, не утекало. На пороге казни он проникся иным ощущением Времени. Оно не исчезало, а как бы надвигалось, подступало все ближе, все ближе, как вода, уровень нарастал, как в шлюзе, но не поднимал вместе с собою Лопатина.
Душа его цепенела. То не было предсмертным ужасом, когда ломит под ногтями и ноют корни волос. Душа Лопатина принимала это оцепенение, как принимала близость смерти. Смерти он ждал и желал как искупления. За все – за свою размашистость, за свою браваду, за свою веру в «звезду» – за все воздаст он собственной смертью. Он прошел по России как поветрие, повсюду навлекая гибель, везде оставляя роковую метку. Скольких обрек он кандалам, бубновому тузу? Скольких осиротил и обездолил? Он не судьбу свою проклинал, а себя. Он хотел умереть, должен был умереть.
2
Окунаясь в туман, пароход «Кострома», зафрахтованный для перевозки арестантов, приближался к Камню Опасности.
В трюме было тихо, как всегда бывало после чая и перед молитвой на сон грядущий. Сизов лежал на нарах. Завтра, да-да, уже завтра, думал он, прогремит напоследок якорная цепь, а на суше ты сам загремишь цепью, как дворовый пес.
Володимир, Володимир молодой,
Через каторгу на каторгу домой…
Кукиш тебе – домой. Но ежели вникнуть, то вроде как домой. Не может душа без того, чтобы в чем-нибудь не отыскать былинку радости. И ловишь в себе вроде бы и радость: на каторгу как домой. Горы там, на этом острове, горы, земля, лес, травы.
Высоко, на подволоке грохнул люк – отомкнули. И опять грохнул – замкнули. Но Сизов головы не поднял, не глядел, как судовой поп, шелестя рясой, спускался по узенькому, почти отвесному трапу.
Каторжане зашевелились, потягиваясь и прокашливаясь, гася цигарки. Нил Сизов с места не двинулся, лежал на жестких своих нарах.
Молодой поп стал творить молитву на сон грядущий:
– Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь. Господе Иисусе Христе, сыне божий, молитв ради пречистыя твоея матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава тебе, боже наш, слава тебе…
Арестанты принялись выдыхать: «Отче наш, иже еси на небеси…» Низкое железное помещение, мерно содрогаясь от ударов машины и винта, помещение с бимсами-балками, тесовыми в два яруса нарами и гальюнами, наполнилось бормотанием двухсот с лишним людей.