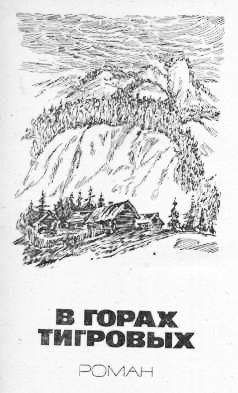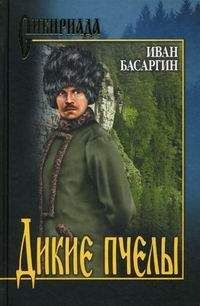Распутье - Басаргин Иван Ульянович
Но народ японский гудит, об этом говорят на улицах Владивостока, все требуют отзыва японских войск с Дальнего Востока. Вот где надо зреть в корень, ежли народ гудит, знать, дело неправое. А неправое еще и потому, что в Японии всё стало дорого, жить стало трудно. А зачем простому японцу эта холодная Сибирь? Зачем матери оплакивать своего сына, который погиб у нас? И правительство Хара заколебалось, закачались их министерские кресла, ибо это было не землетрясение, а взрыв народный. Молодцы японцы, что праведно поняли политику своего правительства, которая идет к тому, чтобы прибрать к рукам Дальний Восток. Но ведь прибрав его, надо его еще и удержать, потому как русский не будет мириться с тем, что на его земле хозяйничает интервент.
Присмотрелся я ко всему, пригляделся я ко всему и понял, что в миру творится диво дивное. Во что это обернется, того я понять не могу. Буфер – то ладно, это значит, оставить японцев с носом. Но вот как понять такое, ума не приложу…»
Макар задумался. Долго смотрел в ночную темень, потушив лампу, пытался разобраться в душах людских. Ведь из числа тех, о ком он писал или будет писать, он многих знал, пусть не лично, но по делам их, видел в лицо. Недавно дошли известия, что генерал Хорват, его Макар не видел, но читал и слышал о нем, вдруг начал «краснеть». Решил записать и эти размышления.
«3 февраля в полосе отчуждения КВЖД Хорват, как писали в газетах, разрешил открыть конференцию общественных, политических и профессиональных организаций. А конференция потребовала от него выпустить всех политических заключенных, что содержались в харбинской тюрьме. Конференция прошла под знаком протеста против интервенции Дальнего Востока. Будто бы это же поддерживал и Хорват.
Ну ладно, это возможно. А вот возможно ли такое, когда во Владивостокском Совете с недавними командующими партизанскими отрядами, коммунистами, такими как Лазо, Луцкий [79], Мельников [80], Сибирцев [81], Пшеницын [82], сидели член комиссариата Временного Сибирского правительства Линберг, член директории и главнокомандующий генерал Болдырев, помощник командующего Омским гарнизоном при Колчаке генерал Караульщиков? Командующий сухопутными и морскими войсками, бывший министр Сибирского правительства – полковник Краковецкий, а его помощник по политической части – бывший инспектор Красной армии Панферов. С этим мы не однова встречались на фронте, потом были встречи в Сибири. Начальник же штаба, тоже бывший кандидат в Верховные Правители, – генерал Доманевский.
И так почти во всех городах. Взять Хабаровск, там тоже сидит мой знакомец – коммунист Стоянович, с коим мы дрались супротив Семенова. Более того, так против нас стоял тогда поручик Булгаков-Бельский. При Колмыкове же он был начальником офицерского добровольческого отряда, счас командующий революционными войсками.
И это командующие, а пошто же тогда Устина отвергали?».
Макар писал, часто макая перо в глиняную чернильницу, писал, чтобы самому разобраться в душах людских. Записал такие слова: «Русский народ отходчив, его можно и нужно понять. Но народ сам понял, когда увидел, что японцы не будут зазря помогать русским людям, что им нужен кусок России, им нужны русские рабы. Вот поэтому-то и решил соединиться. Это понял Ленин в первую голову, это поняло советское правительство и тут же обратилось к белогвардейцам: “Все офицеры и солдаты, которые в той или иной форме окажут содействие в скорейшей ликвидации контрреволюции на территории Восточного Забайкалья, кроме индивидуальных порок и расправ, расстрелов, будут освобождены от ответственности за их деяния, которые они совершили в составе белогвардейских армий Колчака, Каппеля, Семенова”. Подобное обращение было написано и к семёновцам. И сразу же почти половина офицеров белой армии, а солдат и того больше начали бросать Харбин и уезжать на родину, чтобы пойти воевать с Семеновым. Не сидел дома и Устин Бережнов. Он сказал, что чем быть и жить вне закона, так лучше умереть в бою. Всё сожалел, что Коршун хром, нельзя его взять с собой. Уехал на Игреньке, тоже добрый конь, обстрелян и понимающ. Я понимаю Устина, вижу, что он, в общем-то, принял большевиков, но никак не могу понять генерала Болдырева, который шел против большевиков. Хотя ходил слушок, что он якшался с большевиками, но его приструнил Колчак, и он осел. Совсем непонятны другие. Ведь окончание Гражданской войны – это есть победа большевиков, их тонкой и гибкой политики, ленинской политики. Вообще-то головат этот Ленин. Устоять, повернуть все в другую сторону при той слабости – надо иметь не просто ум, а сто умов. Жаль, что отказался идти за Устином Журавушка, так и ответил, что для спасения живота своего есть тайга, укроет и обогреет. Оно-то так, но в тайге один долго не проживёшь. Заскучаешь по живому слову и бросишься назад, хоть на смерть, но бросишься…»
Макар отложил ручку, потянулся, дунул в стекло керосиновой лампы, прошлепал босыми ногами, со вздохом лег на кровать. «Как там Устинушка наш, душа его неприкаянная? Жаль зятя, жаль сестру, что ждала его долгих пять лет, а теперь, когда стала как-то налаживаться жизнь, родился сын, опять осталась одна. Когда же кончится эта коловерть?» – думал, засыпая, Макар. Его тянуло в город, к тем событиям, которые так стремительно развивались. Но не борцом хотел он быть, а летописцем, как сам говорил, чтобы, не кривя душой, не марая врагов черной краской, описать все как есть, как сторонний наблюдатель, как человек, ни от кого не зависящий.
2
В Приморье относительное затишье. Устин Бережнов, командир кавроты Спасского гарнизона, не верит этому затишью, не верит и примирительному молчанию японцев. Он пытается спорить, доказывать комиссару роты Петру Лагутину, что это затишье перед грозой.
– Пойми, Петьша, что это перемирие не к добру. Японцы копят силы, японцы ищут у нас самое уязвимое место, чтобы больнее ударить.
– Я понимаю тебя, Устин, у меня тоже такое предчувствие, но мы же не можем нарушить приказ ревштаба.
– Но я не прошу, чтобы сейчас же схватиться с японцами, я требую, чтобы разрешили моей кавроте отойти, быть на безопасном расстоянии от них. Сто метров разделяет наши казармы. Внезапный удар – и от нас останутся ошмётки. Полковник Осада хорошо помнит меня, я его тоже. Так неужели ты думаешь, что он простит нам смерть своих солдат? Нет. Я тоже не прощу смерть моих парней. Мы улыбаемся, но револьверы держим на взводе.
– Ты попытайся убедить в этом наш штаб, наших командиров.
– Что я для них стою? Бывший белый, бывший человек вне закона. Что бы я ни сказал, всё прозвучит, как подвох.
– Ленин об этом тоже предупредил наших большевиков, но те не внимают голосу разума.
– Если Ленина не слушают, то меня просто поставят к стенке. Разреши ты своей властью, хотя бы на полверсты оторваться мне от самураев? Ну, Петьша? Пехоте проще, а нам будет солоно, пока оседлаем коней, пока сорганизуемся – от нас ничего не останется.
В Спасск приехал с проверкой член Временного правительства Никитин. Просмотрел списки командиров, наткнулся на Бережнова, тут же приказал вызвать его к себе. С Никитиным, к большому счастью Устина, приехал Пшеницын. Этакий красавец-мужчина с грустными-прегрустными глазами, тоже из членов правительства, но ниже рангом, чем Никитин.
Бережнов вяло козырнул, предчувствуя неприятный разговор, доложил о своем прибытии. Никитин уставился на него сверлящим взглядом, на щеках заходили желваки.
– Значит, и вы, господин есаул, перекрасились?
– Похоже, да. Красной краски на всех хватает перекраситься снаружи, но хватит ли ее, чтобы перекраситься изнутри, – дерзко ответил Бережнов.
Пшеницын вдруг захохотал. В его грустных глазах забегали веселые чертики.
– Звание? – оборвав смех, строго спросил Пшеницын.