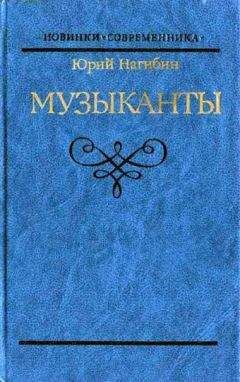Валентин Азерников - Долгорукова
Александр очнулся от своих горьких размышлений. «И что это на меня нашло», — мимолётно подумал он.
— К тебе Валуев, — вернула его мысли Катя.
Александр торопливо проследовал в кабинет. Он вызывал Валуева.
— Ты прости, Пётр Александрович, что я вызвал тебя в неурочное время. Надобно твоё слово и твой совет. Я подписал указ и манифест о переменах в правлении, ты с ними был ознакомлен и даже сказал, что составлено весьма хорошо. Но прежде чем поместить их в «Правительственном вестнике», не худо было бы обсудить в Совете министров. А? Как ты полагаешь? Может, будут какие-то разумные исправления.
— Очень верная мысль, Государь.
— Хорошо бы не отлагать в долгий ящик. Я, как тебе известно, собираюсь вскоре отбыть в Ливадию.
— Если не будет ваших возражений, я назначу заседание по сему вопросу на среду четвёртое марта.
— Только не на ранний час.
— Разумеется. В час с половиною пополудни, если не будет возражений.
— Вот и хорошо, вот и сговорились.
Всё устраивалось как нельзя лучше. Можно было ехать на развод.
— Не пущу! — блеснув глазами, выпалила Катя.
— Как? Императора? — попробовал он отшутиться.
— Да, императора, — твёрдо повторила Катя. — Отца моих детей. Лорис прознал про планы злодеев. Они устроили засаду на Малой Садовой.
— Ежели он прознал, то почему не схватил? Вот я ему задам!
— Пока его агентам неизвестно, где они подкарауливают ваше величество. Но уже нащупан точный след...
— Так я не поеду по Малой Садовой, вот и всё.
— Я прошу вообще никуда не ехать. Прошу! Умоляю!
— Катенька, я не могу нарушить традицию. Когда государь в Петербурге, он обязан быть на разводе. Так повелось со времён царствования моего блаженной памяти отца. Обещаю тебе, что не поеду по Малой Садовой. В конце концов у меня надёжная охрана, казаки, Кох, Рылеев.
— Никому я не верю! — упрямо твердила Катя.
— После развода я заеду в Михайловский дворец к твоей полной тёзке, моей племяннице Екатерине Михайловне принцессе Мекленбур-Стрелицкой[37]. Я тебе много рассказывал о её матери, моей тётушке Елене Павловне. Будь она жива, первой бы одобрила мой выбор. Она была мудра и я всегда следовал её советам. И дочь её без предрассудков, я хотел бы, чтобы вы сошлись. Правда, она старше тебя на целых двадцать лет.
— Это ничего не значит, — пробормотала Катя. — Так вы обещаете мне, что не поедете?
— Обещаю, — усмехнулся Александр. — Не поеду по Малой Садовой. К тому же я обещал племяннице, что непременно буду у неё.
С трудом, но Катя уступила. Её мучили предчувствия.
Экипаж был подан. В сопровождении свиты он покатил в Манеж, на этот раз по Екатерининскому каналу и Инженерной улице, минуя злополучную Малую Садовую, где будто бы его караулили террористы и чуть ли не устроен подкоп. Снова тяжёлые мысли нахлынули на Александра. Он рассеянно глядел в окно.
Снег ещё не сошёл. Он слежался и был влажен и сер. На проезжей части он был жёлто-коричнев, весь в конских катышах. Из-под колёс веером разлетались снежные комья, а опережая их — воробьи и вороны, кормившиеся на дороге непереваренным овсом.
Петербургская весна была такой же серой и унылой, как и его мысли. Разумеется, надо уезжать в Крым и как можно скорей. Там весна уже царит. И небо синее, и голубые горы, и цветущий миндаль. И благословенная тишина, напоенная благоуханием и сопровождаемая ненавязчивой музыкой проснувшейся природы. Там — праздник, здесь — тоска и мука.
На улицах было людно — воскресный день. Завидев царский кортеж люди останавливались и кланялись, некоторые снимали шапки. В одеждах господствовала зима. Мороз унялся, но всё ещё пощипывал щёки. Мглистый серый день не обещал просвета.
Александром овладело то тоскливое настроение, которое невесть отчего сопровождало его все последние дни и которое усиливала вот эта серая петербургская беспросветность. Казалось, свершилось наконец то, чего он нетерпеливо ждал целых четырнадцать лет, и он начинал жить сызнова в атмосфере любви и счастья. Казалось, возвратилась молодость с её великими радостями и ожиданием чего-то большего и лучшего, с её долгими-долгими днями и предощущением новых открытий.
Но всё это промелькнуло и осталась усталость. Странно: откуда, казалось, было ей взяться? Он не утруждал себя делами, а Катя заботилась о том, чтобы ему было легко с ней и детьми.
Вдруг понял: от постоянного, не оставлявшего его всё последнее время ожидания чего-то. Какой-то угрозы, опасности, которой был пропитан петербургский воздух. Взять бы да уехать — всё в его власти. Всё, да не всё... Странно, но словно магнит притягивал его к Зимнему, держал его неотрывно и крепко. Здесь был некий центр, средоточие, вершина его самодержавной власти. Зимний словно бы парил над всей Россией как её некий символ. И это были путы, цепи, приковывавшие его, императора и самодержца, к нему. Это было как открытие. Вырваться, вырваться из его цепких объятий! Они обойдутся без него. А он по-прежнему будет оставаться символом власти, помазанником Божиим. Остаток отпущенных ему Всевышним лет он хотел прожить безмятежно и беззаботно, отдалясь от государственных дел.
Власть, проклятая власть! Она, всё она! Она виновата во всех его несчастиях! И у него нету сил сбросить её вериги.
А что, если перебраться насовсем в Царское Село? Зимний же пусть обживает наследник, Саша. Ему пора привыкать к бремени власти, пора примерить шапку Мономаха и ощутить её тяжесть. Он станет замещать его, Александра, отца, по праву наследования. Станет принимать министров, выносить решения. На первых порах согласовывая их с отцом, принимая его советы и поправки... Есть Лорис, есть Валуев, есть Милютин, есть Абаза, есть те, кто неусыпными трудами укреплял Россию. Они — поддержат, помогут.
Саша стакнулся с Победоносцевым, который опасен — своею ретроградностью, косностью своею. Он тянет назад. Что с того, что он предан без лести — как Аракчеев. Дядя совершил ошибку, уверовав в него и оттолкнув тех, кто видел в нём пагубу России. Победоносцев — пагуба. Он — навязчив, что хуже всего, он лезет наперёд со своими советами...
Да, это мысль! Надо переместиться в Царское с Катей и детьми. А Саша с семьёй займёт Зимний. Кому же достанется Аничков?..
В эту минуту императорский кортеж подкатил к Михайловскому манежу. «Найдётся и наследник в Аничков», — мелькнуло в голове Александра. И в тот же миг его слуха коснулся знакомый гул.
Огромное здание манежа словно вибрировало от ожидания. Ждали его, императора и самодержца Всероссийского!
Сейчас он войдёт, и колонны войск тотчас вздрогнут и замрут.
Оркестр грянет «Коль славен...», он пройдёт в свою ложу, и тысячи глаз вперятся в него...
Да, такие минуты стоят многого. И мог ли он пренебречь разводом, этим смотром и праздником строя, порядка и — преданности. Тысячи глаз преданно ели его глазами. А потом слова команд, церемониальный марш, всадники на выхоленных конях...
Нет, как бы его ни предостерегали и Катя, и Лорис, и тайные доброжелатели, он ни за что не пренебрежёт разводом!
Александр наслаждался этим зрелищем воинской выучки. Что там ни говори, а любовь к парадности была у него наследственной. Она вошла в плоть и в кровь. Порою ему самому хотелось гарцевать на любимом коне впереди строя. Но здесь, в Петербурге, он не мог себе этого позволить. Разве что в Царском... Но зато уж в Ливадии мог отвести душу...
Он наскоро поблагодарил генералов и офицеров, памятуя, что его ждёт племянница к завтраку, и покатил в Михайловский дворец.
— А что, Екатерина Михайловна не приезжала? — спросил он дворецкого, спешившего ему на встречу.
Дворецкий округлил глаза.
— Её высочество ожидает ваше величество! — гаркнул он.
Александр усмехнулся и, махнув рукой, проследовал в столовую. Это был анекдот, только что сложившийся, живой, и он хотел поделится с племянницей, умевшей ценить всё смешное, подобно её незабвенной матери, великой княгине Елене Павловне.
— Знаешь, Катя, — сказал он, взяв её руку и прижав её к губам, а потом коснувшись губами её лба, — экий казус случился. Я просил мою Катерину Михайловну приехать за мной, а твой дворецкий браво отрапортовал, что ты меня ожидаешь... Предупреди его.
Они посмеялись. Потом стали ждать. Но Катя, его Катя, не являлась. И они позавтракали вдвоём.
— Я хотел бы, — сказал он, прощаясь, — чтобы вы сошлись, две Кати дорогие моему сердцу.
— Непременно сойдёмся, — отвечала Катя, кивнув головой.
Он сел в карету. Отчего-то бились в нём лестные тютчевские строчки: «Царь благодушный, царь с евангельской душою, с любовью к ближнему святою...» Он не пренебрегал любовию к ближнему, отнюдь! И любовью к России. Но как совместить эту христианскую любовь с ненавистью тех, кто сеет ненависть и смерть якобы во имя любви к народу, к России? Кто, отталкиваемый народом, вещает от его имени?