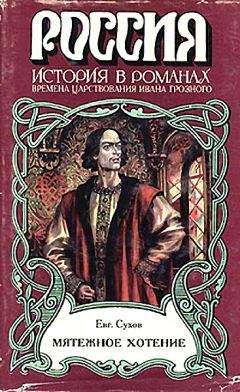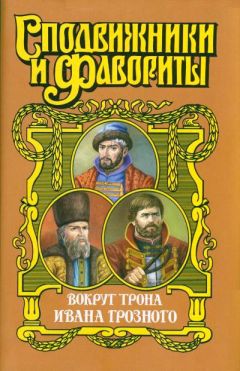Всеволод Иванов - Черные люди
Но в последнюю минутку боярыня Морозова Федосья Прокопьевна оторвала глаза от ковра, засияла ими на протопопа.
— Не обессудь, Аввакум Петрович, — вымолвила она, — бью челом — посети часом мою обитель!
И глаза обоих — протопоповы да боярыни — встретились и захлестнулись…
Глубокая ночь. На башнях Кремля перекликаются караулы. Бьют на колокольнях ночное время. Под деревянным полом кельи грызутся мыши. Натянув кафтанец на посконное полосатое исподнее, встал протопоп на молитву — сна ему никак нет.
Нет никак. Все слышится тихий голос, немногие слова, зовущие во вдовью обитель, и от слов тех словно медвяным туманом наполнена грудь протопопа… Прямо в душу ему вплыл образ молодой вдовы — сразу и до конца — и породил в душе не бушующую страсть, а блаженную тишину… Неужто можно кинуть опять Москву на издевки, мытарства? Ту Москву, что приняла протопопа словно ангела божия?
Опочивальня боярыни Федосьи Прокопьевны Морозовой в большой избе, при ней чулан, тоже с постелью. Ход в спальную из сеней больших, к сеням лестница снизу, у лестницы внизу крыльцо под шатровой крышей с флажком, на двух столбах узорных. Из сеней тех переходы сплошные в иные морозовские хоромы, все по-хозяйски, хорошо, хоть и темновато и тесновато, — ну, по-старинному, одно слово.
И распахнуть дверь из теплых сеней в опочивальню, в правом углу, в толстых, темных от времени бревнах заря незакатная — блеск от золотых, в каменьях икон, с лампадами, от куста горящих свечей в ставнике.
Воротясь от царицы, степенно поднялась боярыня по лестнице, сенных девок в избу с собой не пустила. Сказала:
— Подите прочь!
С ней вошла одна старая ее мамушка, сухонькая, горбатенькая, в морщинках, печеным яблоком все румяное личико. Стала боярыня посредине опочивальни-избы, губу закусила, руки крест-накрест на груди, ногой притопывает. Мамушка сняла с нее шубку, вышла, и боярыня рухнула как подкошенная в кресло перед богами, ломая руки.
— Господи, что я видела, что знала! — тихо плачет боярыня. — До семнадцати лет у батюшки в тереме — песни, молитвы да вышиванье. В семнадцать лет замуж, а мужу-то за пятьдесят!
Правда, ласков с ней, с Федосьюшкой своей, был Глеб Иваныч, родила она ему Ванюшку ясноглазого. Мамушки, да нянюшки, да дворня, да мужики кругом, да монахи, да странные люди. А пуще всего — дела.
Муж помер, она молодая вдова, сердце по ночам в ней мрет. Сны какие видит… Пока не родила, все детей видела, а родила да овдовела, стали чудные лики казаться. Ум да совесть бог дал боярыне Федосье, не смутили их ни богатство, ни почести в царевом Верху, не клала ни разу она старого мужа под лавку, не позорила его седой головы..
Одно любила она — разумные беседы. Другие боярыни и не слыхивали от мужьев своих больше того, что на царевой службе деется, а боярыня Морозова знала дела широко: деверь, большой боярин, первый воротила в государстве Борис Иваныч Морозов, любил с ней беседовать.
— Приезжай ко мне, сноха, во двор, — часто звал он Федосью Прокопьевну, — поговорим с тобой, радость моя духовная!
Федосья и говорила ему от писанья, от веры, от «Маргарита», укоряла, что собирает он сокровища, а сам уж стар, скоро помрет, и все его мечтанья будут погашены и увянут, да и всюду пепел, прах, и рыданье, и плачевье…
— Вот и вся-то твоя сила золота! Ну к чему, деверюшка, твое богатство?
Посмеивался, бывало, Борис Иваныч.
— Государство строим! — говорил он.
— И Диоклетиан-царь свое царство строил, да мучеников мучил. На дыбе царство не построишь!
— А как народ вразумить? Научи, невестушка, что ж… — говорит, посмеиваясь, Борис Иваныч, а Ртищева Анна Михайловна, Федорова сестра, что слушает эти речи, ахает тихонько:
— Сестрица, что говоришь! Не гневи боярина!
Всю свою неистраченную душу боярыня Морозова отдала простой вере: как поверила сызмальства, так и верила до сей поры, до первой сединки. Часами простаивала на молитве, плача, вздыхая, прося прощенья за те грешные помыслы, виденья, что томили, осаждали со всех сторон ее сильное тело… Чтобы ослабить тело, носила она на голом теле власяницу — жесткую рубашку из белого конского волоса, без рукавов. Как-то и увидала на ней власяницу эту невестка, царицына сестра Анна Ильинишна, и подняла же она ее на смех, срамила же ее! А жила боярыня Федосья так, как жил когда-то царь Феодосий: носил под пурпуром власяницу, и хоть скакал в ристалище на золотых колесницах, а сам варил себе еду, переписывал книги, раздаривал их, сам работал на нищих… А после кончины Глеба Ивановича морозовский двор стал и вовсе монастырем: и службы, и стояния, и рукоделье, пряденье и тканье боярыни да всей прислуги на нищих, а по вечерам выходы боярыни по бедным да тюрьмам с деньгами, с едой, с одежей— с роздачей.
Плачет Федосья Прокопьевна у себя в опочивальне, икон уж не видит, — горят пред ней добрые да смелые Протопоповы глаза, бабы да люди в людских шепчутся: что, какая это беда стряслась? Жалко им боярыню милостливую, а всего жальче самих себя: грянет несчастье с хозяйкой, куда еще попадешь после жизни сытой, хоть и богомольной? Сбившись в тревожную кучку, долго качали головами приказчик Андрей, вдова Анна Сидоровна Соболева, Анна Амосовна, первая наперсница, да другие.
Не сразу побывал протопоп у Федосьи Прокопьевны — дел много… Пролитая кровь заревом стояла над селом Коломенским, пламенела над всей землей, и не разобрать, кто был тут виноват — царь или патриарх? Ано оба немилостивы. Народ приходил в движенье — бежал подальше от Москвы, от городов, от воевод, от архиереев, от архимандритов, от стрельцов, от заплечных мастеров. В Заонежье, в Заволочье, в Заволжье прибегали люди, ставили избушки, копали землянки, жили свободно, кто как хотел. Одни держались еще церкви, имели своих попов, другие сами в церковь не шли и другим запрещали, говоря: «Пропала церковь! Не церковь это, а просто каменная изба». Не исповедовались они, не причащались, покойников закапывали прямо в яму, да дело с концом, и от попов с широкими рукавами ряс — по-гречески — прятались… Появились все отвергавшие капитоны, люди горячие, что шли за своим вождем Капитоном, родом из костромских лесов, ничего старого не признавали, заняли лесные дебри — земли костромскую, вязниковскую, муромскую, нижегородскую, суздальскую, вологодскую, собирали свои соборы, сами устанавливали по-своему богослужения, по-своему решали все великие вопросы — о боге, о дьяволе, о душе… Народ бросал своровавшую церковь с ее вором-патриархом, рвал с ней, шел за богом самостоятельно…
Уходил он и из государства. Бросая свои поля, свои ремесла, выпадая из государственного обихода, черный человек терялся для государства как добытчик, как плательщик.
Люди бежали не только в леса, особенно бежали и на Дон — с Тихого Дону выдачи беглых не было. И как тесто в деже всходит на теплой печи, в этой сбежавшейся на Тихий Дон голытьбе, среди новых становищ воровских казаков бродила, пузырилась, вздыхала душа восстания.
Москва давно хорошо понимала, что свободный вооруженный Дон всегда таил в себе для нее опасность, помнила, чем были казаки, во время Лихолетья. Прошло уж больше тридцати лет, как Москва взяла крестоцеловальную запись, то есть присягу, «от атаманов и всего войска Донского», в которой говорилось прямо:
«И нам, казакам, самовольством и без государева указу на море турского султана и в города не ходити, и кораблей и каторг не громити, и городов и сел турсковых не воевати и не имати. И на Крымские улусы не ходити, и на Волгу и под Астрахань не ходити, и городов и людей не грабити и не брати, и у Шаха Казилбашского[161] караванов и бус не громити, у городов и сел не воевати, и государевых московских послов и посланников и воевод их и ратных людей не побивати, не грабити, и дурна никакого им не чинити.
И целуем животворящий крест господень на том всем, как в сей записи имянно, — государю служити и прямити и добра хотети во всем по правде безо всякой хитрости и живота своего не жалея…»
Никоново неудачное дело, голод, дороговизна да война ввергли народ в смуту, а в смуте той легко могли забыть донские казаки свои клятвы о прекращении «бывалых самовольств» и об том, чтоб «государства под ним, государем, не подыскивати». И это тоже знали и понимали на Москве.
Боярин Федор Михайлович Ртищев пожаловал в кельм протопопа. В мартовский день, серый, с крупным мокрым снегом. Боярин приехал, видно, после послеобеденного сна, хмурый, с отекшим лицом. Протопоп не спал после обеда — работал. На стук в дверь встал из-за стола, сунув лист рукописи в ящик. Благословил гостя. В келье было одно узкое окно, под сводами навис сумрак, горела свеча.
— Поздорову ли, боярин? — спросил протопоп.
Тот молчит. Подсел к столу, глянул через плечо на бумагу.
— Пишешь все, протопоп? — спросил боярин, подняв лик кверху.