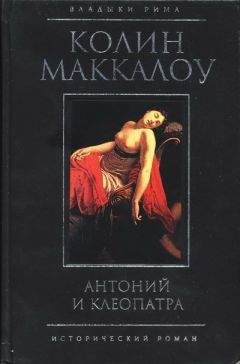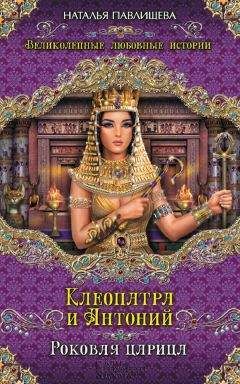Алексей Югов - Ратоборцы
Невский перехватил и держал в тайном заточении послов Тевтонского ордена к Берке. Еще не найден был ключ к затаенью, которым написана была грамота магистра, отнятая у послов, переодетых купцами, еще недосуг было допросить их самому Александру, однако Невский нисколько не сомневался, что речь идет о союзе Рима с татарами против Руси; не того ли ради посылаем был в Татары, в Каракорум, и Плано-Карпини и Рубрук?
…Невскому стало известно, но, видно, еще не успели о том узнать татары, что Миндовг под Юрьевом не дождался прихода русских войск, возглавляемых братом и сыном Александра, а позагоняв братьев-рыцарей за стены орденских замков и обогатившись несметной добычей, вдруг со всеми князьями своими, со своими кентаврами-литвинами, вросшими в седла, одетыми в звериные шкуры, кинулся на владения Даниила и вышел ему в тыл вблизи Волковыска.
Данило Романович, который гнал уже на восток остатки разбитых им туменов хана Куремсы и хана Маучи, вынужден был попятиться перед Бурундаем, ибо страшился вступить в битву с татарами в то время, как с севера нависал Миндовг.
«Вот тебе и сваты!.. Вот тебе и двойное родство!.. Страшен становится сей рыжебородый литовский Аларих!.. И надо еломить ему рог гордыни, пока не поздно, а то уже и над Смоленском лапу заносит!.. А там и на Киев кинется!..» — думалось Александру.
Даниил Романович, горько скорбя и отчаиваясь, извещал через гонца брата Александра, что теперь нечего и думать о возвращении от татар Киева, надо спешно уходить на Галичину, затворять крепости. Если же — так писал он — брат Александр уже занес десницу свою над татарами, то пускай удержит!..
И еще не успели узнать ордынские послы, а то бы не только не спешили свидеться с Невским, а и вовсе бы он их не дождался, — не знали они, что в степях за Воронежем в ставку Берке неожиданно явилось торжественное посольство от Хулагу с щедрыми дарами и с предложением мира.
«Голова имеет два глаза, а зрение у нее одно, — писал в своей грамоте золотоордынскому хану хан Персидской орды. — Мы с тобою — два глаза одной головы. Почему же у нас нет единого зрения? — тебя, дорогой и высокочтимый и светломудрый брат мой, я спрашиваю…»
Перемирие между враждующими братьями уже подписано.
Об этом уведомляла Невского ханша Баракчина, вдова покойного Батыя, ныне — одна из жен Берке. Баракчина всей душой ненавидела своего нового супруга. Во-первых, за то, что он держал ее, вдову самого Батыя, среди своих многочисленных жен, а во-вторых, и за то, что он отравил ее старшего сына — Сартака…
И, охваченная жаждою мести, а кроме того, и щедро одаряемая Невским, ханша Баракчина готова была помогать и Хулагу, и Александру, и всякому, кого она считала врагом Берке…
…Невский делал вид, что ему совершенно все равно, когда вздумают послы Кублая подписать грамоты, а между тем считал уже и мгновенья: ведь чего же еще можно было желать народу русскому в таком страшном стечении обстоятельств? Уберут баскаков и бессерменов. Ни один воин русский, ни один юноша не будет взят в татарское войско!..
«Хоть бы подписали скорее!» — размышлял Александр. Ведь в любое мгновенье и до них может донестись что-либо из того, что сделалось известным ему. И тогда трехсоттысячная татарская конница может очутиться под Владимиром и Ростовом.
Надо как можно больше добрых здешних полков угнать из-под удара Орды. Пускай копятся войска в Новгороде… Там — нужнее!.. Да и ему, великому князю Владимирскому, будет легче изъясняться в Орде: «Если бы я хотел подымать мятеж против тебя, Берке, то зачем бы я отослал на немцев лучшие полки свои, а с ними и сына своего, и брата своего, и зятя? Кто замышляет худое, отваживаясь на мятеж, тот станет ли удалять от себя лучшие силы свои и лучших помощников своих?..»
Настасьину Невский не таясь признался, что окончательно рухнул его великий замысел — поднять народ русский на татар.
— Худо, Настасьин, худо!.. Лучше бы я живым в могилу лег. Все пропало. Теперь только как-нибудь людей русских спасти от резни, от расправы, — говорил Невский.
Еще никогда верный друг и воспитанник Невского не видел его в таком глубоком, черном отчаянии.
И даже ему, Настасьину, страшно было в тот первый миг подступиться к Александру Ярославичу с каким бы то ни было словом.
Тяжкие думы терзали Александра. Он понимал, что теперь, когда орды хана Берке и хана Хулагу объединились, война против татар будет не под силу истерзанной, опустошенной Руси. Удельные князья воевали между собою. Татары подстрекали их друг против друга. Александр знал, что и под него творят всяческие подкопы в Орде его двоюродные братья, сыновья дяди Святослава Всеволодича. Они уже давно сидели в Орде и добивались, чтобы ярлык на великое княжение был отобран у Александра и отдан одному из них. Святославичи клялись хану Берке, что они двинут свои дружины против Невского вместе с татарским войском.
На западе и севере снова зашевелились немцы и шведы. Снова вместе с татарами они готовились вторгнуться на Русскую Землю.
Нет! Никакой надежды не было устоять в столь неравной борьбе! Невский понимал, что даже и его полководческое искусство, и самоотверженная отвага тех, кто станет под его знамя, на этот раз будут бессильны спасти от гибели русский народ…
«Что же остается делать? — размышлял Невский. — Послать кого-либо из своих верных, испытанных советников с богатыми дарами в Орду, к хану Берке, чтобы отвести беду, успокоить хана? Нет! Не поверит теперь Берке никакому посольству, никаким хитрым речам, не примет никакую повинную. „А почему, скажет, сам князь Александр не прибыл ко мне с повинной?! Ведь, скажет, он отвечает за народ свой. А почему, скажет, князь Александр лучшее войско свое держит в Новгороде?!“
И чем больше размышлял Александр, тем яснее становилось ему, что если сейчас бессилен меч, то вся надежда остается на его собственное государственное разумение, на его умение беседовать как должно с татарскими ханами и умиротворять их.
Никто другой, кроме него самого, не сможет отвратить на сей раз новое татарское нашествие. «И детей вырежут, кто дорос до чеки тележной!.. — скорбно подумал Невский, и сердце его облилось кровью. — Да! Уж тогда и вовек не подняться Руси! По всем городам татарских баскаков насажают заместо русских князей! А другую половину рыцари да шведы захватят!.. К чему же тогда народ русский трудился — и мечом и сохою?!»
И Александр Ярославич принял крутое решение.
— Еду! — сказал он. — Еду перехватить Берке — там, в степях, на Дону. Опять хитрить, молить да задаривать! А когда уже сюда нагрянут, то тогда будет поздно. Тогда сколько ни вали даров в черную эту ордынскую прорву, не поможет, покуда кровью русской досыта не упьются!.. Ну, а если уж суждено мне и вовсе не вернуться оттуда, то… что ж! Авось смертью моей и утолятся, а народ не тронут!..
И едва только Александр дождался вожделенных грамот с печатями великого хана и Елдегая, как тотчас же устроил торжественное чествование послов, щедро одарил их. А наутро, едва татары отоспались после пира, Невский объявил им, что он решил лично проследовать в ставку хана Берке, хотя бы и до хребтов Кавказских, чтобы почтить и поблагодарить хана за его отеческое и мудрое попечение…
С приехавшим в Орду Невским на этот раз обошлись как с преступником, чья вина еще не расследована. Его томили и томили в Орде, не разрешая отъехать на Русь.
В первом порыве злобного неистовства хан Берке хотел предать смерти Невского тотчас же, как только тот прибыл в его кочевую ставку.
Был собран совет нойонов.
У Берке был обычай Чингиз-хана: красить щеки жирной красной свечой из плода уджир, который применяли женщины. В его положении это не было лишь пустым подражанием странностям великого деда, но вызывалось необходимостью: лицо повелителя сорока народов без отвращения могла созерцать, пожалуй, только одна его бывшая кормилица Кокачина, да и то, быть может, потому, что ей было уже далеко за семьдесят и она уже не способна была всмотреться в лицо своего былого питомца.
Берке не любил яркого света. В походном войлочном шатре его, несмотря на то что снаружи блистал степной полдень, было трудно, не приглядевшись, рассмотреть всех присутствующих.
На престоле с низкой округлой спинкой входящий видел сперва мутно белевшие лица самого хана и старшей ханши его, сидевшей по левую руку от него и чуть пониже. Бросалось в глаза сверканье драгоценной большой серьги, оттягивавшей левое ухо Берке, блистанье одежд и украшений ханши.
Берке был одет в шелковый стеганый халат зеленого цвета с блестками; на голове был парчового верха колпак с широкой бобровой опушкой. Ноги хана в красных козловых туфлях были поставлены на бархатную подушечку на подножной скамейке: Берке страдал давней ломотой в ногах и незаживающими язвами голеней, от которых новый медик его, теленгут, именем Тогрул, назначил ему недавно ножные ванны из подогретого женского молока. «Ванну из молока пленных русских пэри в течение месяца или двух, государь, — сказал медик, — и ты будешь здоров, и зуд в твоих богоносимых ногах исчезнет. — Подумав и помолчав, теленгут низко наклонил старческую, наголо обритую голову и добавил: — Но и рабыни из числа франкских, или немецких женщин, или гречанки также могут быть взяты для этой цели…»