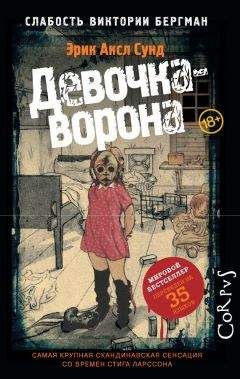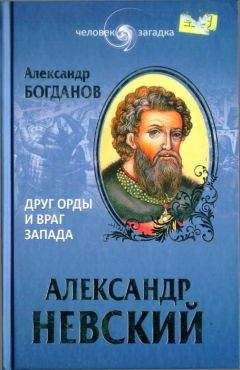Сергей Мосияш - Александр Невский
А теперь великий князь едет с татарами. Ясно, не пирогами угощать. Кое-кто зачесал в затылке: однако, худу быть!
— Не трусь, Василий Александрович, — ободрял князя купец Александр. — Весь Новгород за тебя. Не трусь.
— Я не трушу, — отвечал с жалкой улыбкой Василий.
А средь ночи вдруг проснулся в поту холодном. Помстилось, что кони на дворе заржали, отец приехал. Долго лежал с открытыми очами, пытаясь представить, что скажет отцу. Наконец не выдержал, закричал:
— Ставр! Ты слышишь, Ставр?!
— Что стряслось, князь? — явился кормилец со свечой.
— Вели коней седлать. Едем.
— Куда? На ночь-то глядя…
— В Псков, дурак! — взвизгнул Василий и ударил ладонью по коленке. — И не перечь! Слышишь? Иди, седлай!
— Да я что… да я разве… счас велю.
У кормильца у самого на душе непокойно было. Знал — с него первого спросит великий князь за сына, с него. И приказ такой — седлать и ехать в Псков — для него тоже был желанен. «Ускачем подале. А там, глядишь, перекипит великий князь, охолонет. И простит сына, чай, родная кровь. А заодно и меня».
И ускакали. Ночью. Прихватив с собой и дюжину отроков для охраны. Впопыхах о съестном не подумали, и пришлось в пути перебиваться в весях черствым хлебом и квасом перекисшим. Не глянулось князю, но ничего, ел. Брюхо — не мамка, одно — «дай да дай» — и ведает.
Когда великий князь прибыл на Городище и узнал о бегстве сына, стал мрачнее тучи. Понял: раз Василий бежал, значит, действительно виноват перед ним. Вызвал к себе Мишу Стояныча. Тот, пересказав ему события последних дней, напоследок решил смягчить боль отцовскую.
— А с-с к-князя ч-что взять? М-молод. Что д-дули в-в уши, т-то и с-слушал.
— Кто дул в уши Василию?
— В-едомо, Ал-лександр к-кузнец с-со т-товаршци. Вот-т с-с к-кого от-твет с-спраш-шивать н-надо, Яр-рославич.
— Спрошу, — отвечал недобро Александр. — Со всех спрошу.
В тот же вечер по велению великого князя взяты были и брошены в поруб кузнец Александр, братья Емины и еще несколько человек. Взяли и кожемяку Сысоя Нездылова, на этот раз противиться он не стал. Сказали, мол, великий князь велел, он сразу согласился и сам до поруба дошел. Такое покорство зачлось потом Сысою, князь живот оставил ему, лишь ноздри вырвать велел для памятки.
Но арестованных в первые дни не трогали, не до них было. Надо было с татарами дела кончать.
Новым посадником был назначен Михаил Федорович — боярин смелый и крутой. Сим назначением великий князь как бы доказать новгородцам хотел: одного Михайлу убили, другого найду, а станет по-моему.
Увы, на вече, созванном новым посадником, когда численник Бецик-Берке предъявил ханские требования, они с ходу были отвергнуты народом:
— Не хотим числа-а!
— Лепше смерть, чем число!
Возможно, неказистый вид татарина (этакая вошка, ногтем можно придавить) вдохнул в новгородцев новый прилив упрямства, — дескать, хан нам не указ. А может, великому князю досадить решили: ты, мол, нас так, а мы тебе эдак.
Но Бецик-Берке не уговаривать приехал. Видя столь дружный отказ, он сказал со степени:
— Ну что ж, коли волей не хотите, неволей придется. Так и передам хану, а на сем кланяюсь вашему вече великомудрому и отъезжаю.
Новгородцы, привыкшие во всяком деле торговаться, были обескуражены столь скорой уступкой посла. Не повопили по-настоящему, не побранились, и нате вам — «отъезжаю». Разве это разговор? Бецик-Берке и шагу не успел сделать со степени, как тут же взбежал на нее боярин Юрий Михайлович.
— Господа новгородцы! — вскричал, вскинув вверх руку. — Негоже нам посла ханского без подарков провожать.
— Верна-а-а, — поддержало вече.
И едва Бецик-Берке вернулся на Городище, как вскоре были привезены ему богатые подарки — две дюжины соболей, три дюжины бобровых шкур, серебряный кувшин с искусными узорами и новенькая калита, набитая золотыми монетами. Татарин подарками доволен был, оставшись с великим князем наедине, пошутил:
— Еще раз пять на степень подымусь и богаче хана стану. А? Хе-хе-хе.
Потом, посерьезнев, взялся рукой за бородку, предупредил:
— Только ты один знать должен, Ярославич. Еду я не к хану — во Владимир. А ты, если сможешь, управляйся сам с ними. Сможешь?
— Должен смочь, — отвечал Александр хмуро.
— Вот когда сломишь их, позовешь меня. Я с месяц могу подождать. Но учти, Александр, если за месяц не управишься, я буду вынужден звать хана. Ты понимаешь?
— Понимаю, Берке.
— При всей моей любви к тебе, князь, я вызову нашу рать. И тогда от Новгорода останутся одни головешки. Впрочем, ты же ведаешь, что бывает после нашей рати. И еще, я надеюсь, ты примерно накажешь тех людей, которые убивали наших численников.
— Накажу, Берке. Они уже у меня в порубе.
— О-о, как скоро, — удивился Бецик-Берке.
Александр лукавил с татарином. Настоящих убийц вряд ли найдешь, если избивал татар весь город. В порубе сидят главные возмутители, они и сойдут за убийц. Пусть тешится татарин столь скорым возмездием, глядишь, более сроку отпустит для утишения новгородцев.
Так оно и вышло. Перед самым отъездом, видя хмурое озабоченное лицо великого князя, Бецик-Берке смиловался.
— Ладно, Ярославич. Не люблю огорчать тебя. Даю тебе еще один месяц на усмирение народа твоего. И будет всего два месяца.
Он ждал благодарности за эту щедрость. И Александр не стал чиниться:
— Спасибо, Берке. Ты очень великодушен.
Татарин засмеялся, погрозил шутливо пальцем:
— Только с тобой, Ярославич. Только с тобой я великодушие являю. А отчего? Оттого, что люблю тебя.
«От такой любви хоть сам в петлю лезь», — подумал с горечью Александр, но вслух вполне искренне пожелал татарину счастливого пути. Он понимал, что будь на месте Берке другой численник — лучше б не было, а хуже — наверняка.
С Бецик-Берке уехали не все численники, часть из них была оставлена на тот случай, если новгородцы согласятся на число, чтобы можно было сразу приступить к исчислению людей.
Уже на другой день по отъезде послов великий князь велел привести к крыльцу сеней кузнеца Александра. Сам сел наверху на вынесенную лавку. Закованного в цепи кузнеца привели и поставили внизу.
«Экий богатырь, — подумал князь. — И супротивник. Жаль. Вельми жаль».
— Ну что, кузнец, рассказывай, как это ты молодого князя к предательству склонил?
— Я не склонял его, князь. Василий Александрович сам рассудил, за чью правду стоять.
— И за чью же встал?
— Ведомо, за русскую правду, не за татарскую.
Великий князь прищурился недобро, на скулах желваки обозначились, но гнев сдержал, спросил, голоса не повышая:
— А я за какую правду стою?
— Сам знаешь, князь. За татарскую.
«А нагл кузнец-то, нагл. Сам на рожон лезет. Такого нельзя миловать».
— Ну спасибо, кузнец, за честь такую. — Злая усмешка княжий ус шевельнула. — За то, что мутил народ черный и князя Василия на смуту склонил и на измену мне, лишаю живота тебя. Ныне молись, а заутре готов будь.
Александр едва кивнул головой. Стража поволокла кузнеца к порубу, он, оборотившись, закричал:
— Меня повесишь, думаешь, себе славы сыщешь? Нет, князь, позору и бесчестья себе прибавишь. Я там, — кузнец указал на небо, — у всевышнего просить стану погибели тебе. Слышишь, князь? Погибели!
После кощунственных выкриков кузнеца на крыльце долго молчали все. Наконец великий князь оборотился к Светозару, тот с готовностью поймал потемневший взор его.
— Послезавтра поедем в Псков, князя Василия брать. А пока пусть выводят старшего Емина, продолжу суд.
XXXIV
НЕ ЗОВИ ОТЦОМ
Светозар вышел на крыльцо и на вопросительный взгляд князя кивнул утвердительно: здесь.
Александр Ярославич, хмурясь, поднялся по скрипучим ступеням и, прежде чем войти в хоромы, сказал Светозару глухим, несколько севшим голосом:
— Никого не впускай. И сам не входи, пока не позову.
— Хорошо, князь. Будь уверен, самого владыку не пущу.
Василий сидел у стола в дальнем переднем углу под иконой божьей матери, когда в светлицу вошел отец. Сын встал поспешно, хотел шагнуть навстречу отцу, но, увидев, как тот остановился посреди горницы, не посмел сделать и шага.
Великий князь стоял и, недобро щуря темные непроницаемые глаза, молчал.
Василий Александрович был в зеленом полукафтане, без броней, без меча. Возможно, сим своим состоянием беззащитным, безоружным хотел умилостивить гнев отца, памятуя русскую поговорку: повинную голову меч не сечет.
Молчание было долгим. В сердце великого князя, клокотавшее всю дорогу от гнева, вошло вдруг горькое чувство обиды на судьбу, так зло подшутившую над ним. Давно ль в стылое, морозное крещенье радовался он рождению своего первенца, пил за это с каким-то забитым, запуганным смердом, дарил его калитой княжеской, искренне желая осчастливить мизинного в такой радостный день.