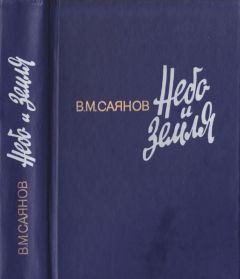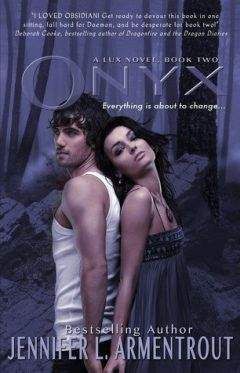Виссарион Саянов - Небо и земля
— От вас требуют немногого: подпишите только этот небольшой листок! Составлен он в самых корректных выражениях. Никакой ругани по адресу Советов. Только две фразы: «Я, такой-то, имярек, считаю себя свободным от обязательств, которые дал большевикам…»
— И все?
— Все.
— Не знаю, зачем вы снова повторяете одни и те же слова? Я уже сказал вам: ничего противного моим убеждениям подписывать не буду.
— Вы, может быть, вступили в большевистскую партию и потому так упорствуете?
— Нет, я еще не член партии, но Советской власти служу честно и присяге своей как красный летчик не изменю.
— Так, — медленно проговорил Васильев, подергивая припухшими веками, — и вам непонятно, почему я говорю о вашей доверчивости?
— Непонятно.
— Пылаева помните?
— Как же не помнить. Грязное существо! Ваша тень! Нечто, если можно так выразиться, вроде соглядатая, сопровождавшего нас на жизненных перепутьях. Удивительно было бы, если бы он сейчас не предстал перед нами.
— Насчет тени, конечно, вы очень образно сказали… Но я имел в виду другое: среди многочисленных профессий, которыми за свою бурную жизнь овладел Пылаев, можно отметить и искусство подделки чужих почерков.
— Что ж, он известный пройдоха.
— Вот он и подпишет за вас отречение от большевиков, — ведь у него специальная книжечка есть, в которой хранятся образцы почерка знакомых ему людей. Там и ваш образчик, помнится, есть, сбереженный еще с Юго-Западного фронта.
Только теперь Глеб понял, какое жестокое испытание ждет его, и низко опустил голову. Что же, ведь он и без того знал: ему остается только одно — умереть, но новый план Васильева был страшнее самой чудовищной пытки…
Глеб поднялся со стула:
— Делайте как хотите, но скорее кончайте пустую болтовню!
Он рванулся к Васильеву, но полковник был достаточно предусмотрителен и тотчас навел на Глеба дуло браунинга.
Сзади ухватили Глеба чьи-то дюжие руки, и Васильев насмешливо сказал:
— Да не тащите его, как куль муки! Осторожнее и, главное, смертным боем не бейте!
Глеба выволокли из комнаты, и как только захлопнулась дверь, на него посыпался град ударов, — били по спине, по ищу. Из рассеченной губы потекла кровь.
Через десять минут Глеб оказался в низком сыром подвале, на железной заржавевшей кровати.
Теперь он уже твердо знал: близятся последние минуты. И, вытянув руки, с ужасом подумал о тягчайшем испытании, придуманном Васильевым. Сколько рассказов ходило по красноармейским частям о зверствах белых! И все-таки с какой радостью подвергся бы Глеб самым страшным пыткам, лишь бы не переживать недавнего разговора!
Глеб никогда не считал себя трусом и еще в дни балканской войны понял, как, в сущности, не страшно расстаться с жизнью, если воля собрана, — мгновение, последний вздох, и, словно ружье при отдаче, сразу отходит назад былое с его радостями и печалями.
Но та смерть, которую он должен встретить сегодня, страшнее любого испытания судьбы. Умереть с клеймом на лбу, с кличкой изменника, которую не смыть ничем, и в последнюю минуту предчувствовать, как будут осуждать тебя люди, если они поверят васильевской провокации, — это свыше человеческих сил!
Он ходил по подвалу. Черные тени ползли по хмурым, запачканным окнам. Пахло чем-то кислым: перестоявшимися щами, вымокшей кожей. Зеленые стекла, — такое стекло идет на пивные бутылки, — совсем почти не пропускали света. Глеб упал на солому, положил голову на руки, прислушался, как бьется сердце…
— Скоро ли узнают о моей смерти Лена, Быков, Тентенников? Впрочем, им не долго ждать, — вслух проговорил он, снова вспомнив про васильевские листовки. — Они-то, конечно, не поверят, но другие… Неужели так и будет отдано в приказе по армии — «изменника?..
Он закричал. Никто не отозвался. Тогда он стал бить ногами по железной двери. Послышались шаги на дворе, потом тяжелые сапоги зашаркали по каменным ступеням.
— Откройте! — крикнул Глеб. — Мне надо немедленно к полковнику — важные показания.
— Ишь, разошелся! — заорали за дверью пьяные голоса. — Всыпать ему два десятка шомполов — и притихнет.
— А ну, давай!
Два конвоира с обнаженными шашками в руках стояли у открытой двери. Неожиданный крик пленного заинтересовал их, и вот спустились они по грязным ступеням: дескать, не уймешь беспокойного пленника, так и другим повадно будет.
Унижению новой встречи с Васильевым и Здобновым, пустым разговорам об отступничестве и отречении следовало положить конец. Глеб вспомнил далекий вечер на Каме, убегающие огоньки деревенек на белых отмелях, Наташу, и самого себя на борту парохода, и думы о будущем, и чей-то чистый, высокий голос, певший старинную песню о липе, расколовшейся на четыре пня, о звоне сторожевом, о разлуке с любимой. Что же, жизнь прожита, в ней было не только тяжелое — было и счастье. И теперь, в какое-то короткое мгновение оглядываясь назад, он чувствовал, что счастья было больше, чем он думал обычно, — оно было в любимом призвании, в победах над стихией, оно было в великом деле, которому служил Глеб с того дня, когда на Юго-Западном фронте мировой войны улетел с Николаем Григорьевым от преследования царских властей. Счастье было в молодости, оно было и в твердой вере в правоту жизни и в высоких деревьях, подымавшихся к свету у самой ограды…
— Зачем звали? — спросил конвоир, высоко занося шашку и близко подходя к Глебу.
— Дело у меня к полковнику…
— Какое такое может быть у тебя к нему дело? — недоверчиво спросил старший конвоир.
— Тебе говорить не буду.
— Ан скажешь!
Глеб стоял совсем близко от него, в нос ударило запахом грязного, потного человеческого тела, спиртным перегаром. Глеб понимал: расстрел неизбежен. Раз так — самое лучшее теперь же умереть. Если он останется в живых, трудно будет доказывать подделку подписи Пылаева. А то еще пришлют фотографов, снимут перед расстрелом, и к новой листовке Васильева приложат портрет… Нет, лучше сразу все кончить…
— Веди! — сказал Глеб, подымаясь еще на одну ступеньку.
— Ах, вот ты какой!
Глеб схватил его за руку выше локтя и выхватил шашку.
— Держи, братцы, держи! — закричал конвоир, сжимая Глеба в своих могучих объятиях.
Глеб вырвался и рукояткою шашки ударил по широкому бородатому лицу. Бородач упал на землю; второй конвоир судорожным движением руки расстегивал кобуру.
Глеб бежал к забору. Он ясно различал каждый колышек, вбитый над досками.
— Держи его!
Офицер в бурке бежал Глебу наперерез, размахивая саблей. Глеб подпустил его совсем близко и вдруг, пригнувшись, прыгнул навстречу.
— Стой! — закричал офицер.
Глеб ударил его головой в живот, и оба они покатились по земле.
К боровшимся сбегались отовсюду солдаты. Тот самый конвоир, у которого Глеб отнял шашку, стал на колени и старательно прицелился.
Когда грянул выстрел, все разбежались, только Глеб остался лежать на земле, раскинув руки. Изо рта его тоненькой струйкой лилась кровь. Конвоир поднял валявшуюся рядом шашку и с размаху ударил по окровавленному лицу…
Глава седьмая
Напрасно в тот день ожидал Быков возвращения летчиков. Совсем уже стемнело, а ни Глеба, ни Тентенникова не было на аэродроме.
— Что с ними случиться могло? — говорил Лене Быков. — Пожалуй, самое лучшее сейчас же полететь за ними.
— Ты беспокоишься?
— Места не нахожу.
Лене передалось волнение мужа, она подошла к нему, взяла его за руку:
— Понимаю, отлично понимаю, но сейчас не надо спешить. Подожди известий с фронта и только потом уже вылетишь на поиски.
— И надо же было так опростоволоситься с нашей задержкой в городе. Даже не попрощался я с ними перед вылетом.
— Я постоянно беспокоюсь о Глебе, — сказала Лена. — Но сегодня почему-то кажется, что полет кончился благополучно.
— Может быть, вынужденная посадка?
— Кто знает…
— И подумать только: теперь в отряде остался один я. Даже послать на розыски некого! Скоро ли настанет время массовых призывов в авиацию, какие знает теперь лишь современная сухопутная армия? Вот возьмут вдруг и призовут по России сто тысяч человек в наши летные части.
— Ты фантазируешь, и это на тебя не похоже. Такое слово скорее от Глеба можно услышать, — изумленно сказала Лена.
— Ну, может быть, я перехватил. Пусть хоть двадцать тысяч! Ты сама посуди: какое у нас тогда воздушное воинство будет! И разве не вспомнят о нас, как мы крутили здесь карусель смерти на крылатых наших гробах?
— Мы до тех дней не доживем, — сказала Лена. — С тех пор как я себя помню, неизменно война и война. Я в зеркало вчера на себя посмотрела и, знаешь, невольно взгрустнула: ведь молодость-то проходит… Столько испытать довелось…