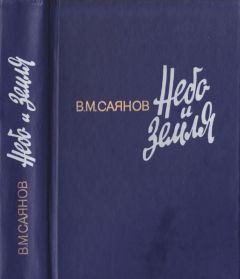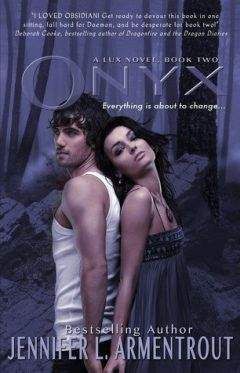Виссарион Саянов - Небо и земля
Глеб шел, глядя под ноги, чувствуя, как затекают связанные руки. Пыль на сапогах, следы глины на брюках придавали ему какой-то грязный, потрепанный вид, и Глеб огорчился: приятнее предстать перед врагом чистым, выбритым, щеголеватым, подтянутым, как на смотру. И ругал же он себя теперь за то, что, увлекшись нелепой партией в шашки с неугомонным и азартным Тентенниковым, не успел побриться! Казалось ему, будто небритый, обросший рыжеватой щетиной, в грязной одежде, в пыльных продранных сапогах он будет выглядеть уставшим, ослабевшим человеком…
Его ввели в чистенький белый дом, посадили на табуретку, развязали затекшие руки. Молодой человек пошептался с поручиком, сидевшим у стола в передней, и поручик, щелкая каблуками и звеня шпорами, бросился в соседнюю комнату.
— Ведите! — тотчас крикнул он.
Глеб перешагнул порог — и сразу же увидел сидевшего за столом полковника в какой-то необычной зеленой форме, с множеством орденов, крестов и медалей на груди. Глеб понял, что большинство этих боевых знаков отличия новоиспеченный полковник Васильев раздобыл по случаю, с помощью своих интендантов.
— Не узнаете? — спросил Васильев.
— Нет, почему же, я вас отлично помню.
— Снова мы с вами оказались соседями.
— Не по моей вине.
— Мы с вами без вина виноватые, — насмешливо ответил Васильев, придвигая стакан с чаем и усаживая Глеба на сломанный стул. — Но приятно встретить старого знакомого даже и такой обстановке… Посудите сами: что бы ни было между нами, — а кто старое помянет, тому глаз вон, — мы все-таки оба — участники прошлой войны…
Глеб тихо сказал:
— К чему говорить о былом? Того, что прошло, не вернешь. Всю жизнь мы были на разных дорогах. По-вашему, я преступник, враг, которого надо уничтожить. Я тоже считаю вас своим врагом. Стало быть, лучше прекратить нелепый разговор и перейти к главному.
— И я думаю о главном, — ответил Васильев, опять придвигая стакан к Глебу. — Вы, должно быть, не понимаете сложности нынешнего положения. Белая армия стремительно движется вперед, и близок день ее вступления в Москву… Я еще услышу малиновый перебор колоколов Успенского собора…
— Можно? — Дверь приоткрылась, и осторожно, ступая на носках, вошел в комнату Здобнов.
Он был в том же офицерском кителе, какой носил в быковском отряде, только на плечах были нарисованы химическим карандашом погоны, — очевидно, белое интендантство не доставило вовремя новые погоны в васильевскую часть.
Ухмыльнувшись, он подошел к Глебу.
— Ну как живете в отряде? — спросил он. — Не скучаете без меня?
Глеб, отвернувшись, молчал. Здобнов потер руки, как человек, вернувшийся в комнату с мороза, и вкрадчиво сказал:
— Как о том рае вспомню, сразу мурашки по телу идут…
— Мы очень внимательно наблюдаем за вашим отрядом, — сказал Васильев.
— Не сомневаюсь.
— Надеюсь поговорить поподробнее. Знаете, Глеб Иванович, как только вас увидел — сразу же на меня пахнуло чем-то родным.
— При нем я говорить, во всяком случае, не буду, — громко сказал Глеб, глядя на Здобнова.
— Почему же? — ехидно спросил Васильев.
— Он сам знает.
— Нет, уж мне, если позволите, Глеб Иванович, совсем невдомек, почему вы на меня гневаетесь, — спокойно ответил Здобнов. — Кажется, у нас никогда столкновений не было, отношения самые приличные.
— Перелетев из нашего отряда, вы нарушили слово русского офицера, — сказал Глеб, в упор глядя на изменника.
Здобнов расхохотался и стал посреди комнаты фертом, упираясь руками в бока:
— Ну, и рассмешили же вы меня, дорогуша! Неужели вы приняли всерьез недавнюю присягу, которую мы давали? В старое время верующие люди не боялись нарушить клятву, если была необходимость и целесообразность в таком решении, а здесь вы придаете значение присяге перед каким-то комиссаром? Меня попросту поражает ваша недальновидность. Неужели вы не понимаете, что большевики не продержатся до зимы? Кому будут нужны тогда ваши нелепые клятвы?
— Позвольте мне самому знать, кому они нужны. Вообще ни спорить, ни разговаривать с вами я не буду. Еще раз прошу убрать отсюда штабс-капитана Здобнова, — сказал Глеб, обращаясь к Васильеву.
— Я и сам уйду, — сказал Здобнов. — Если бы вы меня обвиняли в том, что я опозорил честь своего полка, я бы, пожалуй, и обиделся. Но отвечать на нелепый, мальчишеский вздор…
— Вы — предатель, перебежчик… Понятно? А насчет мальчишества зря говорите. У меня голова седая.
— Не вижу. Вернее, не понимаю, откуда у вас седина… — Здобнов развел руками и вышел из комнаты.
— Не удивил вас его спокойный ответ? — спросил Васильев. — Здобнов прежде всего офицер. В политике он не силен, но в нужную минуту сумел принять правильное решение. С него и нельзя было спрашивать большего.
— Лучше бы нам прекратить психологические разговоры… Честнее просто сказать: когда вы меня расстреляете?
— Я не могу перед вами предстать в звероподобном облике только потому, что вам хочется меня сделать мерзавцем. Ваша жизнь не нужна мне. Есть где-то на свете дикие племена, которые признают совершеннолетним только такого юношу, который принесет вождям отрубленную голову врага. У этих племен бывали случаи, когда и старики считались несовершеннолетними, так как не могли никого убить за свою жизнь. Что касается меня, то я уже давно совершеннолетний, как и всякий хороший солдат. Стало быть, вашей головы мне не нужно.
— По-моему, в ваших частях верховодят люди, в которых звериного много, а человеческого нет. Вы и раньше, помнится, восхваляли звериные инстинкты в людях, говорили, что вам нравится тот, кто не убивает в себе зверя. С каким восторгом цитировали вы как-то фразу Ницше о белокурой бестии…
— Не буду спорить, я и сейчас так думаю. Но я обращаюсь к вам: призовите к себе на помощь ваше благоразумие. Вспомните о своих близких, о самом себе. Я говорил вам о нашем ударе на Москву. Неужели завтра, когда все развалится у большевиков, вы останетесь верны их режиму?
— Я твердо знаю, что нет на свете власти более прочной, чем Советская власть. Только такая власть, созданная народом и для народа, будет победительницей в великой борьбе. Я присягал ей и никогда ей не изменю!
— Этого никто и не требует от вас. Напишите только несколько слов, которые мы могли бы предъявить контрразведке для того, чтобы освободить вас. Я заготовлю соответствующую бумажку. Подпишите ее — и вы свободны. Можете уехать в Крым, или на Кавказ, или на берег Азовского моря, жить на досуге, поплевывая в потолок, и потом, когда война кончится, — а кончится большевистская эпопея очень скоро, — тогда вы снова свободный человек и сможете начинать жизнь сначала.
— Наш разговор становится бессмысленным. Я в плену. Попади вы ко мне в плен, я не стал бы церемониться с вами: ведь вы такой же изменник, как Здобнов. И к тому же у нас столько тяжелого в прошлом, что, право, я не расположен больше разговаривать…
— Неужели вы обязательно хотите умереть?
— Я — красный летчик.
— Но подобные вещи хороши только в романах. А на самом деле? Ведь геройство и щепетильность — разные вещи.
— Да замолчите же вы в конце концов! — крикнул Глеб, хватаясь за лежавшую на столе пепельницу.
— Пустяки, она легкая, алюминиевая. Ею мне черепа не пробьете… — спокойно усмехнулся Васильев. — Итак, вы, стало быть, не боитесь физического уничтожения?
— Я уже вам сказал. Я не боюсь смерти, потому что правда, которой я служу, победит.
— Понимаю. Дескать, ничего не изменится на свете, если человек погибнет. Так же будет всходить и заходить солнце, и по-прежнему будут мартовские коты бегать по крышам, и травка будет зеленеть, и солнышко блестеть, и так далее, и тому подобное… Но ведь это — шутка, а вот если попросту говорить, по-мужски: разве не страшно?
— Смерть не страшит человека, честно прожившего жизнь.
— Вы понимаете, где находитесь сейчас?
— В логове врага. Или, если на то пошло, у вас в лапах. Ведь я вас издавна считаю подлецом.
— Дерзите, молодой человек!
Глеб покачал головой и тихо сказал:
— Больше нам говорить не о чем.
— Не к спеху! — насмешливо ответил Васильев. — Я, конечно, понимаю ваше состояние: ждете каких-нибудь пыток — выкалывания глаз, усекновения членов. Не будет, ничего подобного не будет…
— Тем лучше.
— Еще лучше было бы, если бы вы подписали обязательство, которое перед вами лежит на столе.
— Об этом нечего и думать.
— И все-таки вы меня удивляете.
— Чем?
— Своей доверчивостью. Вот заняли такую благородную позицию и сидите на ней, как на камешке у берега морского. Да неужели у вас фантазии нет совершенно?
— Я не понимаю вашего намека…
— От вас требуют немногого: подпишите только этот небольшой листок! Составлен он в самых корректных выражениях. Никакой ругани по адресу Советов. Только две фразы: «Я, такой-то, имярек, считаю себя свободным от обязательств, которые дал большевикам…»