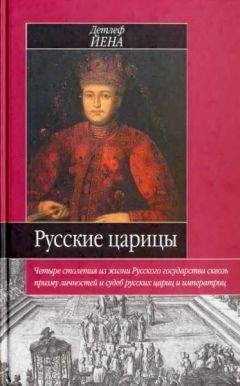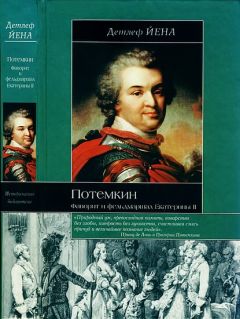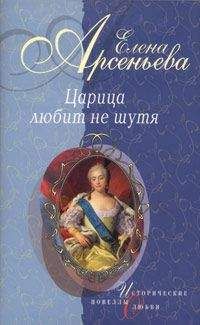Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
Суетливо вышла повитуха, прикрывая полотенцем лохань.
Голос в комнате как будто дробился на части, распадался и опять соединялся:
– А-а! А-а-а! Э-э-э! Ге! Гэ! А-а-а!
Потом выкатилась Евфросинья. У нее дрожали губы.
– Двойня! Княже, милый! Хлопчик и девочка.
Всплеснула руками. Умчалась куда-то. Сиделка бегом вернулась в комнату. Началась суета. Никто не обращал на него внимания, и он сел на низкий подоконник.
Густо стемнело за окном, как всегда перед рассветом.
…Опять Глебовна. Аж захлебывается:
– А боже мой! Вырастут детки. Приведет она их под грушку. Будет для них сапежаночки рвать. А те будут есть да улыбаться солнышку.
Сквозь слезы взглянула на Алеся и вдруг широко раскрыла глаза.
– Панич! – И поцеловала в лоб…
Снова заплакала:
– Уж такая мне радость! Не было ведь у меня деток. Ни от мужа-покойника, ни потом…
Вытирала кулаками глаза. Так, как никогда не делала при пане Даниле.
* * *Два свертка в руках Глебовны. В верхней части каждого свертка было как бы окошко.
В каждом окошке было что-то красное и некрасивое. Каждое некрасивое чмокало губами, чем-то вовсе не похожим на рот.
– Подержите. Так надо.
Он держал это теплое сквозь ткань, а женщина поддерживала. И он боялся, что поломает это или возьмет как-то не так.
И вдруг эти, словно по команде, раскрыли глаза. Глаза были серые и длинные. Или, может, это так показалось? Серые и длинные. Его.
– Глебовна, мне кажется, я их люблю.
Женщина недоверчиво посмотрела на него:
– Иди, иди. Не ври.
…Перед собой на высоких подушках он видел потемневшее, исхудавшее лицо с искусанными губами.
– Приехал? – скорее догадался, чем услышал он.
Он стал на колени и осторожно приник головой к ее руке.
– Прости меня.
Он не слышал ее слов. Только видел неуловимое движение губ.
– Я терпела… сутки… А потом не выдержала и застонала. Не могла уже. – Глаза ее засияли. – И вдруг мне стало легче. Я поняла: появился ты. И почему-то мне стало совсем легко.
Он посмотрел на нее с немым вопросом.
И получил немой ответ: ничего не изменилось и не изменится.
В библиотеке горел свет. Дед не спал. Ему забыли сообщить. И он ожидал.
Вскинул подбородок навстречу внуку. И тот понял, на что дед прежде всего ждет ответа.
– Отказалась.
– Я знал, – сказал дед. – Кто?
– Близнецы.
– Что-о? – Вежа выпрямился.
– Мальчик и девочка. – Алесь сел к камину и налил себе вина.
Наступило молчание.
От вина или, может, еще от чего-то покачивало.
– Отец будет кумом, – сказал дед, – Клейна – кумою. Чтоб не было подозрений на имена.
– Какие имена?
– Юрий и Антонида. Какие же еще?
– Дедуля, – сказал Алесь, – я думаю, есть бог на свете.
Алесь рассказал про дорогу, про разговор с профессором, про то, как звучала песня в снегах, про страшный сон.
– Так иногда у нас бывает, – сказал дед. – Понимаешь, как чего-то забытого клич. Когда-нибудь я постараюсь рассказать тебе о других сокровенных наших знаниях, случаях, чудесах. Этого никто не понимает, но это есть. При чем же здесь бог? Это твоя тревога, желание, единение душ на один миг. Иногда, во время битвы, бешеные приступы ярости у наших людей. Когда силы будто бы возрастают в десять раз. У норвегов – «берсеркерство», у наших – «пана». Видишь, даже слова отдельные есть. Разность нервной системы или еще что-то? Или, говорят, индусы могут иногда не чувствовать боли. Или наше чувство трясины. Восемь из десяти детей, даже впервые попав, не провалятся. Как будто, скажи ты, охраняет их кто-то. А что уж там бог? Мы сами боги. Сегодня вот – боги. Бываем свиньями, а сегодня боги.
– Но сон…
Дед неожиданно вскипел:
– Сон! Предрассудки это. Не ожидал от тебя. Раковина предрассудков – спрячься и сиди. А все люди тычутся туда-а, сюда-а, не понимая, что прикованы к жизни, в которой все сказано. Боятся – потому и бог. Помнишь слова из родовой клятвы: «Нет ничего, кроме могил…» Одни верят в могилу Христа и ради нее издеваются над живыми. Потому что мертвый говорит и они не могут отказаться, жгут на огне… Другие верят в доктора Гильотена и над его могилой лязгают его же изобретением. Не глупость ли, когда надо верить в живых, в то, что сегодня произошло?
– Но все это…
– Первое, что свидетельствует против религии, так это то, что у людей разные боги.
– Не то, дед, не то. Не о верах. О том, что во мне, о моей цели, о том, что спасло всех нас.
– Мы сами себя спасли, – сказал старик. – А если погибнем, так тоже сами. Никто в этом не будет повинен, кроме нас самих… Землей и людьми движет дух борьбы. Я не знаю, есть ли у этой борьбы какая-нибудь надежда. Но из века в век люди борются. И потому они люди, а не быдло.
Пламя трепетало на лице деда.
– Сегодня – правда, завтра – ложь. Сегодня – Брут, завтра – он же, Нерон. Сегодня – бог, завтра – плесень, а потом другой бог. Учения, все учения – вздор. Есть одно учение, пока человек исповедует правду мыслей, чувств, любви.
* * *Следующей осенью студент императорского Санкт-Петербургского университета Александр, сын Георгия, Загорский, не дослушав курса наук по словесности и истории, сдал, однако, при хорошем поведении все необходимые экзамены по этим дисциплинам и, подав установленные диссертации на степень кандидата, был заслуженно утвержден в этой степени господами профессорами и попечителем Санкт-Петербургского учебного округа.
Студент, однако, не воспользовался ни одним из прав и привилегий, предоставленных императором тем, кто имеет степень кандидата, а остался при профессоре Срезневском для усовершенствования в науках, одновременно записавшись на слушание лекций по медицине и философии с правом посещать, как и прежде, лекции по словесности, истории и изящным искусствам.
Защита диссертации по истории («Крестьянское восстание XVII столетия на территории белорусского Приднепровья. По материалам родовых архивов местных дворян и приднепровских «Хроник»), для написания которой он все лето просидел в архивах Вежи, Суходольского замка, Раткевичевщины, Кистеней и фондов бывшего Збаровского Костелянства, прошла без препятствий.
Зато на защите «Приднепровских песен, сказаний и легенд» едва не возник скандал. Собралось слишком много народу из «Огула» и просто так земляков. Все в большинстве плохо одетые, в ботинках, которые просили каши, в сюртуках, перешитых едва ли не из домашних чуг и свиток. Некоторые в очках с «оконными» стеклышками. Большинство из-за отсутствия пальто в заношенных пледах, смастеренных из самой дешевой шотландки или даже из домотканых, в шашечку, постилок. Все больше из тех людей, что аплодировали Чернышевскому и о которых ходила шутка:
– Что это ты, хлопче, из половика себе плед сделал?
– Из риз пока что не позволяют.
– Что это у тебя рушник вместо галстука?
– Хорошо, что пока не верёвка.
Юмор был мрачный. Воистину юмор висельника. Но сами хлопцы были веселые, хотя и вечно голодные. Откуда просочилась к ним весть о защите диссертации, не знал никто.
Эта аудитория встречала каждое «опасное» место одобрительным гулом. Оппоненты, возможно побаиваясь неприятностей, пытались было оспаривать слишком «левые» положения работы. Особенно старался профессор Платон Рунин, наиболее рьяный из славянофилов университета. Кричал что-то о «славянской душе», которой чужд мятеж и с самых изначальных времен свойственны кротость и поиски бога в своей душе и душе тех, кто руководит. Наконец договорился до того, что только под эгидой сильного славянин чувствует умиление и раскованность, что духу славянских народов не свойственны все формы парламентаризма и демократии, придуманной безбожными французами, что всегда они будут ощущать духовную потребность в монархии.
Алесь, вспоминая свои недавние размышления, краснел от слов Рунина, как будто его били по щекам. А студенчество гудело:
– Вече! Разин! Копные суды! Вощило!
Срезневский наконец был вынужден остановить их.
А Рунин бубнил дальше. Все что-то о том, что защищающий, тенденциозно подбирая песни, показывает в своей работе самый богобоязненный и кроткий из славянских народов бандой мятежников, грабителей и гуляк, которые жаждут вечного бунта.
Сравнивал работу Алеся с «Песнями шотландской границы» Вальтера Скотта и намекал всем о многочисленных неприятностях и обострениях, которые породил этот безответственный эксперимент, эта гальванизация трупа неукротимой и дьявольской идеи свободы, давно себя скомпрометировавшей.
Студенты устроили обструкцию. Измаил Иванович призывал к порядку и Рунина, и студентов, затем сам перешел в наступление на оппонентов, начал крошить и ломать их доказательства.
А потом, когда диссертацию приняли, расцеловал «двойного кандидата» и согласился пойти вместе с друзьями, которых набралось человек пятьдесят, отпраздновать у Бореля рождение нового «мужа науки».