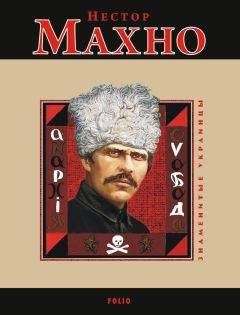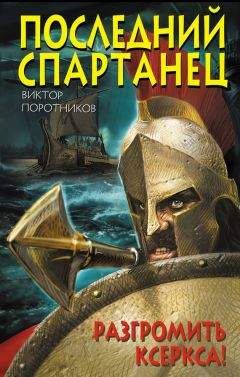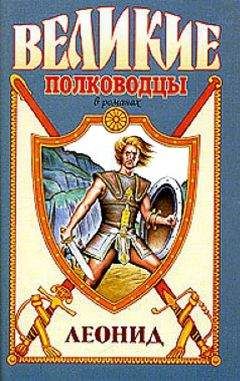Виктор Ахинько - Нестор Махно
В ночи зародились вроде другие звуки. Правда прислушался с тревогой. Разведка поймала кого-то? Не похоже: топот не скорый, осторожный. Батько на всякий случай достал револьвер. Вдруг каратели! Надо хоть предупредить своих. За последние дни хлопцы так ухайдокались, что попадали без сил.
В село по-воровски, тихонько въезжали верховые. По неясным теням Правда определил, что их не больше эскадрона.
— Стой! Палить буду! — крикнул он из-за забора.
— Это свои!
— Назовись!
— Пархоменко я! — зычно озвался кто-то из передних. Конь его прижимался к забору.
— Имя давай! — потребовал Правда.
— Иван я. Не узнаешь? Сосать тебе волчицу!
— Чи з того свиту, чи шо? — не поверил батько, вспоминая, как тот бросил войско, еще когда союз с красными подписали.
— Спите, куры! Ни одного разведчика. Ты кто? — спросил Пархоменко. Правда узнал его по басовитому голосу и назвал себя. Иван спешился, протянул руку через забор. От нее пахло сырой кровью.
— Здоров, полуночник! Всё культыгаешь?
Батько руки не взял, побоялся. Может, Пархоменко приехал мстить за гибель брата? Дернет, бугай, и прибьет.
— Откуда ты взялся?
— Долго рассказывать, — Иван убрал руку.
Тут к ним подошел санитар из лазарета, разбуженный шумом.
— Мотай, Илья, в штаб, — велел ему Правда. — Скажи, приблудился Иван Пархоменко. Хай встречають. Поняв?
Санитар убежал.
— Да ты, Правда, никак струсил? — удивился ночной гость. — На тебя не похоже.
— Поскачешь на костях — задрожишь, — отвечал батько.
— Едем, командир. Спать до смерти охота! — послышались недовольные голоса.
— Не рыпаться, бабахну! — предупредил Правда. — И второе. Меня ж возьмите. Вы шо думаете, без чарки обойдется?
Прибыл дежурный по штабу Лонцов-Кочубей, что когда-то командовал бронепоездом. Улицу перекрыла пулеметная сотня.
— С добром явился, Пархоменко? — спросил Кочубей. — А то у нас разговор короткий!
— С добром.
— Тогда поехали к Батьке.
Заходя в хату, высокий Иван нагнулся, увидел за столом членов штаба. Они вроде еще и не ложились спать. Горели керосиновые лампы, пахло соленьями. Рядом с гостем стал Лев Зиньковский, готовый в любой момент сграбастать его.
— Явился, дезертир! — угрожающе сказал Махно, не поднимаясь. — И сколько же ты хлопцев привел?
— Полуэскадрон.
— Чи не войско! Гаврюша, — обратился Батько к Трояну, — проследи, чтоб развели по хатам, накормили людей и коней. Садись, Иван. Выпей чарку и докладывай.
— Цэ я його пиймав! — улыбнулся Правда, тоже умащиваясь к столу и наливая себе в кружку.
— Слухаем тебя, — Нестор Иванович глядел на Пархоменко по-ястребиному.
Но тот не смутился. Закусывал огурцом и говорил жестким баритоном:
— Союза с кремлевскими диктаторами я не желал и не желаю. Им наша воля, что волчья сиська. Вас тогда приманули, чуть не загрызли. А мы ушли. Подались в Россию. Там тоже хватает обездоленных. В Воронежской губернии набралось у меня до десяти тысяч штыков. А тут слух: какой-то Антонов вздыбился. Гонцов к нему послали. Я от вашего имени действовал, Батько.
— Что-то не верится, — ехидно заметил Кочубей. — Самому, небось, захотелось в гетманы!
— Послухаем, — одернул его Махно. — Продолжай, Иван. Кто такой Антонов?
— Был начальником милиции. Крепкая жила. При царе сидел за идейный разбой, освободила Февральская революция. Но вот беда — эсер, требует Учредительного собрания. Заключили мы с ним лишь военное соглашение. Антонов остался на Тамбовщине, а я пошел назад. Воронежцы заколыхались, особенно зажиточные. Я кинул лозунг: «Каждый имеет право на продукты своего труда».
Им понравилось. Моя группа возросла до тридцати тысяч…
— Ох, и брешешь! — встрял Правда, наливая себе снова в кружку.
Пархоменко покосился на него пренебрежительно и продолжал:
— Комиссары, сосать им волчицу, принишкли. Ненадолго. Пригнали бронепоезда, полевые части. Полная оккупация, как и здесь. А народ устал…
— Эх, безымянный ты, Иван, — вздохнул Правда.
— Это почему же?
— А так. Не батько — сельский атаман.
— Зато я ни в какие союзы с Троцким не вступал! — духарился Пархоменко.
— Знаешь, что положено дезертиру? — все так же холодно поинтересовался Махно. Его беспокоил не этот хвастливый бегунок. Дело прошлое. Мучил распад армии.
— Таковым себя не считаю! — огрызнулся Иван и, большой, усатый, недовольно подвигал плечами.
— Ты не хорохорься, — посоветовал ему горячий Трофим Вдовыченко, позванивая под столом серебряными шпорами. — Чув про свого брата Сашка?
— Начдив у красных, орденоносец. Ну и что? Яза него не отвечаю.
Члены штаба поняли, что Иван еще ничего не слышал.
— Нету его! — как-то злорадно сообщил Правда.
— Ты… что? — Пархоменко повернулся вправо, влево, не веря услышанному.
Махно опустил голову и смотрел исподлобья, сурово. У него убили четырех братьев, и он сполна испытал, что это такое. В гнетущей тишине прозвучал ровный голос начальника штаба Виктора Билаша:
— Он прилетел со своей дивизией, чтобы порубить нас. А мы его взяли в плен, твоего Александра, и расстреляли.
Пархоменко судорожно глотнул.
— Где? — спросил хрипло. Лицо его вмиг посерело, ясно было, что он никому этого и никогда не простит.
— На правом берегу Днепра, — отвечал Билаш. — Наших там сотни полегло в окружении.
Иван шумно вздохнул. Батько Правда подвинул к нему свою наполненную кружку. Пархоменко взял ее, тряхнул головой и молча выпил.
— Ну что ж, — сказал. — Рано еще к Богородице. Будем биться!
На следующий день его полуэскадрон влился в кавалерийский полк редеющей Повстанческой армии.
Т. Склянский!
Наше военное командование позорно провалилось, выпустив Махно (несмотря на гигантский перевес сил и строгие приказы поймать), и теперь еще более позорно проваливается, не умея раздавить горстку бандитов… И хлеб, и дрова, всё гибнет из-за банд, а мы имеем миллионную армию. Надо подтянуть Главкома изо всех сил.
Ленин.Лично он не был жестоким человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестокости Чека, говорил, что это не его дело, что это в революции неизбежно… В личной жизни у него было много благодушия. Он любил животных, любил шутить и смеяться, трогательно заботился о матери своей жены, которой часто делал подарки…
Ленин — империалист, а не анархист. Все мышление его было империалистическим, деспотическим.
Н. Бердяев. «Истоки и смысл русского коммунизма».Разгневанная людской злобой зима двадцать первого года словно с цепи сорвалась. Сутками сеяло и веяло, мутило и крутило. Дороги, особенно по балкам и низинам, позаметало, и в сугробах тонули колеса бричек, ноги лошадей. Закутанная до глаз Гаенко верхом подъехала к штабной тачанке, где сидела подруга.
— На своций зэмли пропадаем, Галочко, — прошамкала Феня заиндевелыми губами. — Бильшэ нэ можу так. Давай останэмось.
Галина взглянула на мужа. На нем лица не было. Худой, сгорбленный, он сделал вид, что ничего не слышал. Катили по заснеженной холмистой степи на юг.
— Не лезьте в запретный мир, — изрек Махно строго.
Армия совсем истощилась. На нее наседал свежий кавалерийский корпус, трепал обозных, вылавливал разведчиков, и повстанцы, их лошади еле тащили ноги. Запоздало приметили колонну, что надвигалась. Ни принять бой, ни уйти от нее на рысях не хватило сил. Окрысились пулеметами в селе и ждали, что будет. А верховые приближались.
— Свои! — послышалось. — Та свои ж!
Это был отряд матроса Бровы из Самарского леса, что под Екатеринославом. Мало того. Он привел… целую бригаду буденновцев во главе с Маслаковым, который руками подковы разгибает! Казак бережно заключил Батьку в объятия и шумел:
— А что я обещал? Придём! Вот и мы. Факт! Ну, здоров, Махно!
Радость была великая. Если сами буденновцы одумались, значит, погуляем еще по степям, покажем комиссарам, где раки зимуют! Собрались в хате на большой совет, выпили по чарке.
— Другие казачки пока колеблются, — гремел Маслаков. — Но они тоже с нами. Дай срок, Батько. Дай!
Галина слушала недоверчиво, лишь пригубив рюмку. Факт-то факт, да из ряда вон. Красные не раз перемётывались, но только пленные. А сейчас, когда положение совсем аховское, добровольно явились, и не кто-нибудь — гвардейцы власти! С чего бы это?
— Нам нечего терять. Хуже все равно не будет! — с усмешкой говорил силач. В юности он объезжал диких лошадей. Как-то неукротимый кабардинский жеребец вырвался из загона и полетел в раскидистую Ставропольскую степь. Маслаков смотрел на него, золотистого, и завидовал: вот так молодец! Сам бы убежал, но куда? А тут революция порвала все путы. Вахмистр царской армии — «черная кость» — с азартом сколачивал красные отряды в бригаду и бесстрашно водил ее против любых «превосходительств». Когда же приехал в отпуск по ранению и увидел дома чекистов, продотрядовцев, что грабили станичников, и новых шишек в очках — понял: опять ярмо накинули, марксистское. И хотя ему, как и Буденному, светила блестящая карьера, но в упряжи — Маслаков восстал.