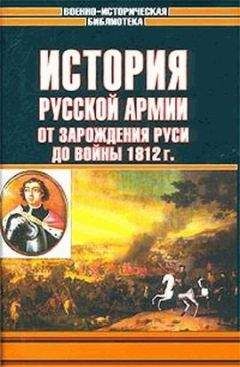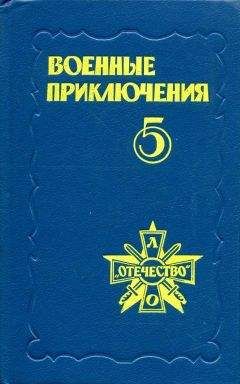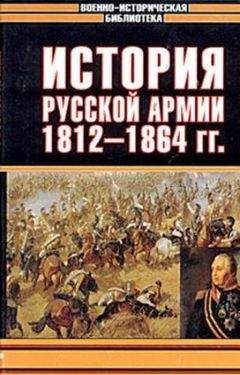Форт Далангез - Беспалова Татьяна Олеговна
— Возьми её, — настаивал Хозяин. — Мне она ни к чему, а тебе как раз пригодится. Будет кому на старости лет кофий в постель подавать. А ты её обучишь. Про тебя-то каждый знает, что ты человек хоть и цирковой, но образованный. Разные языки знаешь. Во многих странах как свой принят. Сам стихи сочиняешь и сам на музыку их кладёшь. Слышал я и о том, как ты в известные журналы задачки по алгебре пишешь. Их потом разные люди решить пытаются, да не каждый может решить-то. Такие хитрые у тебя задачки. Ты её всему сам научишь, и никакой гимназии не надо. Возьми!
— Научу… Научил уже некоторых! — клоунская маска исказилась, из печальной превратившись в злую. — Я её научу, а она на меня потом сглаз и порчу направит. Смотри, какие у неё глаза, а зрачки будто булавкой проткнутые.
— Да говорю ж тебе, Иван Афанасьевич, сглазливые глаза голубые или, как у меня, — серые. У колдуна волос светлый, почти бесцветный, как у меня, а это дитя гор, что с неё взять?
— Правильно ты говоришь, солдат: что с неё взять? И учить смысл какой? Простой арифметический счёт, чтоб на базаре торговаться могла и мужнины деньги правильно считать. А ещё грамоте, чтобы надписи на вывесках могла разобрать, — вот и вся наука. А больше ей и не надо. Таких сколько ни учи — всё одно всё сведется к базарной торговле каким-нибудь барахлом или, хуже того, к воровству с грабежом. Ты этих горцев знаешь.
Рот его искривился, будто клоун проглотил горькое. Глаза его грозно уставились на меня. Он ждал: вот я стушуюсь, а может быть, даже и заплачу, как совсем недавно плакал он сам, сквозь смех. А может быть, заплачу и как-то иначе, по-настоящему. Однако вышло не так, как он думал, а по-моему.
— Меня не всему надо учить, — горделиво приосанившись, заметила я. — На коне я уже умею скакать. И запрячь коня умею. И напоить его. Я корм лошадям могу задать. Отец учил меня стрелять из своего обреза, и у меня получалось попасть с двадцати шагов в медный грош. Хоть завтра могу выйти на арену с вашими циркачами.
Я говорила долго, стараясь показать отличное владение русским языком. При этом я, наивная, всячески восхваляла не только себя, но и воинские доблести своего убитого отца, о котором знала лишь понаслышке. Красноречие моё не иссякало — очень уж хотелось остаться в цирке. Мне хотелось также, чтобы и Хозяину позволили остаться в цирке вместе со мной, и это право я готовилась и заслужить, и отработать, если потребуется. А Хозяин смотрел на меня с изумлением, ведь до этого я почти не раскрывала рта, особенно на людях.
Клоун в который уже раз окинул меня оценивающим взглядом.
— Всё-то ты врёшь! — бросил он, и во рту его растворилась ещё одна горькая пилюля.
— Могу показать! Я видела в вашем цирке много лошадей. Могу сесть на любую!
— Хвастовство!
Тогда я не поняла доподлинно значения сказанного клоуном слова. Ясно было только, что он мне не верит. В поисках правильного аргумента я оглянулась на Хозяина, стоявшего позади меня.
— Я слышал, твой отец, Меретук, очень хорошо стрелял и стоя на седле, и из-под седла…
— Да я умею! Джигитовка!
И клоун сдался.
— Господь с тобой. Пойдём!
Страбомыслов неловко выбрался из своего кресла. Я последовала за ним в цирковое закулисье, где кричали, курлыкали, рычали, ржали и лаяли цирковые животные, где в нос бил запах их мочи и кала. Я шла, ступая по мелкому песку, а порой и древесные опилки впивались в мои голые пятки. Я ойкала и морщилась, останавливаясь, чтобы вынуть из ноги очередную занозу.
— Ты бы хоть на обувь для девочки потратился, — ворчал недовольный моей нерасторопностью Клоун. — Эй, где ты, солдат?
Но того уже и след простыл. Мой Хозяин исчез, считая новые руки, принявшие меня, вполне надёжными. Поразмыслив, я отнеслась с уважением к его выбору.
Спустя много лет меня нашло письмо, писанное Хозяином в северном городе Коряжма. Всего несколько строк, которыми он выражал надежду, что я всё-таки выучилась читать и писать, и смогу самостоятельно прочесть его послание. Его надежды питали газетные статьи, время от времени появляющиеся в российской и заграничной прессе, в которых рассказывалось о феерических успехах цирка Страбомыслова. Я помню достоверно, как в одной из статей — кажется, то был "Вестник" — действительно упоминалось имя юной эквилибристки Амаль Меретук. Хозяин хвалил меня, используя для этого самые нежные выражения. О себе он рассказал очень коротко: состарился. Вот и всё…
А пока я следовала за полосатой спиной. Так следует за мамой-уткой едва вылупившийся из яйца утёнок. Обычная, не сценическая походка клоуна была скованной, как у старого человека с больными костями и суставами, но стоило лишь ему ступить из-за смрадных кулис на свежий, пахнущий дамской пудрой воздух манежа, как движения его преобразились: шаг сделался стремительным, а осанка горделивой. По песку манежа бродили белые горлинки из аттракциона "Сара Самерс и её дрессированные голубки". Клоун возвысил голос, отдавая распоряжения, и белокрылые птицы взвились к куполу. В тот короткий миг, когда их шумные крылья трепетали возле моего лица, я испытала восторг счастья. Но вот голуби упорхнули. Амаль Меретук засмотрелась на них и не заметила, как мне подвели маленькую лошадку с бельмом на левом глазу.
В руки мне дали очень тяжёлый старинный пистоль, совсем не похожий на обрез моего отца. Угрюмый желтолицый человек в зелёном трико показал мне, как целиться и как нажимать на курок. Я выстрелила на пробу в цирковой купол. Пуля перебила один из канатов трапеции. Горлинки снова взвились.
— Але-оп! — вскричал клоун, и вот я уже в седле.
Там, на манеже, в окружении рядов пустующих кресел, я — девочка без имени и с потерянной судьбой — показала всё, что умею. Там я впервые ощутила мистический азарт победы над фатумом. Вкус удачи оказался сладок, незабываем…
Время слишком быстро бежит, от того порой я ощущаю себя совсем старой. Часы, дни, недели, месяцы, годы скручиваются в плотный клубок моей жизни. "Что есть жизнь Амаль Меретук?" — спросите вы. И я отвечу: жизнь Амаль Меретук — это ЦИРК.
Что такое цирк? Цирк — не только деревянный обтянутый раскрашенным брезентом каркас. Цирк — не только круглая посыпанная песком арена и зрители вокруг неё, не только пахнущее звериными испражнениями и трудовым потом закулисье. Цирк — это вереница конных повозок. Иногда их лишь двадцать, но часто намного больше. Вот они тянутся по просёлку под назойливым дождём, который с минуты на минуту собирается превратиться в снег. Впереди хорошие сборы в рождественские праздники и на Масленицу. Надежда осесть на зиму в каком-нибудь губернском городе. Но дни зимней оседлости проходят. Праздники заканчиваются страдой, и цирк снова пускается в путь по просохшим после весенней распутицы дорогам.
И опять, как в минувшем году, шоссе, просёлки, переправы, большие и маленькие города. Россия, Северный Кавказ, Малороссия, Белая Русь, Польша, Балтия, Закарпатье… В городах дома, магазины, фабричные трубы, вывески и кабаки, палисадники, крыжовник и смородина, рябинки и акация, черёмуха и сирень, виноградная лоза, шелковица, яблоки или абрикосы, поля подсолнечника и рапса — как повезёт, но всегда и везде в сумерки меж синими ставнями в окошках свет. Ранним утром над низинами стелется туман и тишь такая, что выдохнуть страшно. В такие минуты человеческое дыхание слишком громкий звук. В медленной речке вода, как ртуть. Рыбка играет, пуская круги по воде. И стрекозы. Множество стрекоз, и каждая, как ювелирное украшение. За высокими воротинами на хозяйских дворах неведомая мне семейная жизнь. Там мычит скотина, кудахчут куры и верещит детвора. Возможно, такая семейная жизнь скудна, скучна и уныла. Возможно, в ней слишком много труда и лишений, а праздников и веселья совсем чуть-чуть. А вот у меня и дома-то нет, зато на ногах ботинки из отлично выделанной кожи, на плечах красивая шаль, а в сундуке за спиной множество платьев и даже шубка из чернобурого меха имеется. А у меня в картонках дюжина изысканных шляпок, а одна из них даже с настоящим страусовым пером. А у меня в кармане потрёпанная колода покойницы Любови Пичуги, которая очень кстати скончалась именно в тот момент, когда мне по возрасту стало вовсе неловко заниматься джигитовкой и стрельбой по движущейся мишени. Уходя из нашего мира, она отчасти передала мне начатки своего искусства, главным образом заключавшиеся в прямом подлоге. Ведь среди зрителей в зале всегда присутствовали несколько цирковых, добрых знакомых огромного попугая и его всегдашних избранников. Искусство Любови Пичуги заключалось главным образом в том, что она, подобно писателю Чехову и иным литераторам, для каждого представления придумывала своим "подсадным уткам" новую судьбу.