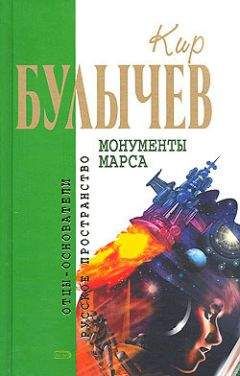Роман Шмараков - ПОД БУКОВЫМ КРОВОМ
Племянница, ловившая в цветнике бабочек из желания убедиться, что она красивее, довела мне, что я прогулял чай (я просил прощения) и что до ужина мне нечего ждать. Мы разговорились; она оказалась очень милою, без всякого жеманства. Она немного скучала; в первый день по приезде она с восторгом обежала знакомые места — назавтра они казались ей глупыми; попечение полковника было ей слишком мелочным, хотя вызываемое глубокой привязанностью; но она ожидала приезда матери и своего младшего брата, думая с ними найти развлечение. Я развлек ее как мог рассказами из столичной жизни, беззаботно привирая на каждом шагу. Мы расстались совершенными друзьями; она обещала писать мне письма, а я обещал их читать; мы скрепили это взаимное обязательство клятвой. Появился полковник, где-то неподалеку выговаривавший старосте. Я рассыпался перед ним в искренних похвалах его саду. Самый умный человек находит что-нибудь в лести о себе; чтобы довершить впечатление, он провел меня в библиотеку. Ее тихое окно смотрело в качающийся сад. Смею сказать, его книжное собрание нашло во мне благодарного посетителя. С изумлением следил я на длинных полках деятельность упорного и неутомимого вкуса, в глубине России собирающего лучшие плоды европейской учености и гения. На столе лежал развернутый недавний номер «Московского Телеграфа». Журналист называл Байрона солнцем всемирной поэзии, протекающим по великой идее человечества, и судил о гении нынешних поэтов по их тяготению к поэзии байронической. На полях при этой фразе твердый карандаш полковника оставил саркастическое примечание. Я улыбнулся его выходке. До ужина оставался я в библиотеке, перелистывая то одну, то другую книгу и везде находя пометы, оставленные полковником, к которому все более проникался уважением.
За ужином я навел разговор на состояние нашей литературы. Полковник сказал, что старая ее чопорность нравилась ему больше нынешних sans-facon и что милее следить за тем, что кажется смешно, нежели за тем, что кажется гнусно, — мнение (оговорился он), конечно, порожденное стариковскими пристрастиями. О журналах наших отзывался он с большою резкостью, говоря о бесстыдстве триумфов, какие устраиваются для лиц, лишенных чести и имения, с тех пор как тем посчастливилось сделаться лицами поэтическими — суди Бог Байрону за это одолжение нашей словесности — и об упоении производить всемирную славу, не имеющую надежды пережить усилия пера, коим она обязана своим бытием. — Мне это напомнило одну мысль Ларошфуко о простых побуждениях, на которых, может быть, основываются исторические дела, — именно, о ревности, вызвавшей войну Августа с Антонием. Я сказал об этом полковнику; слыша его резкие апофегмы, я думал, что он должен любить меланхолического автора «Reflexions» и что сие напоминание не будет ему неприятно. Полковник пожал плечами. «Мы так приучены нашими преданиями, нашим воспитанием к его словарю, что он составляет одежду нашей мысли, без которой ее в обществе не признают, — сказал он. — Грешно быть неблагодарным: я люблю Ларошфуко; а все же думаю, что он был бы лучше, если бы меньше занимался другими и имел мужество и терпение подметить в себе что-нибудь кроме среднего росту и волос вьющихся».
Это показалось мне несправедливым; я принялся защищать бедного герцога, говоря о его долгом одиночестве, лучшем судье человеческой души, о взыскательности его ума, отнюдь не любящего ни упиваться своей горечью, ни делать из нее ремесло. Полковник отвечал, что тот спешит делать заключения из обстоятельств слишком частных; что мысль моралиста сохраняет в нем всю пристрастность человека партии и так же, как она, подвержена упрекам в мелочной горячности. Лица эпохи Фронды и кардинала Мазарини принуждены им заново разыгрывать свою историю, небрежно переодетые в аллегорическое платье пороков и добродетелей, и мы с разочарованием узнаем за прозрачною тканью избранных наблюдений то усы герцога Бофора, то румяна г-жи де Шеврез. Его вынужденная праздность, делающая невыносимым воспоминание о допущенных ошибках, и тайное ожесточение, питаемое противу неверных союзников и малодушных повелителей, не позволяют ему довериться, когда он принимает вид человека, ставшего над страстями, в то время как он лишь иногда поворачивается к ним спиною. — Разгорячение почти заставляло моего хозяина нарушать светскую должность уступчивого собеседника. «Его распоряжения и описания, — сказал он, — обличают военного человека, но склонность заниматься пустяками, подобными битве за хлебный обоз, портит его записки. Впрочем, в судьбе его, как и его сотоварищей, видно, что увлечение интригами не оставляло им времени на разборчивость. Несчастная война за Бордо, начатая ради утраченных дворянами вольностей, перенесла в провинцию все те бедствия, коим с горькою усмешкою посвящали они в праздности страницы важных размышлений: прихотливая ярость растревоженного народа, боязливое вольнодумство Парламента, неблаговидные переговоры с Испанией, коих сами виновники тяготились мыслию о совершаемой ими государственной измене, — стоило ли для этого покидать Париж? Замысел связать равнодушных горожан казнью несчастного Каноля обличает изощренность макиавеллическую; самая мысль явиться перед публикой и в плаще философа, и в тоге политика доказывает неразборчивость в желании нравиться, а неумение помешать им компрометировать друг друга свидетельствует о чрезмерной надежде либо на свою удачливость, либо на читательское простодушие».
Тут уже я взмолился не приписывать совести Ларошфуко то, что принадлежало в его поступках более его веку, нежели его склонностям, или хотя бы не обвинять его разом в вещах, противоречащих друг другу. Полковник заметил, что порыв задавить Коадъютора дверью обличает в герцоге бешеный припадок гнева, после которого поди верь его бесстрастию моралиста: «и я, — прибавил он, — больше доверяю жалобам жертвы, уверяющей, что этот позорный замысел не был поддержан ее устыдившимися врагами, нежели запальчивым оправданиям убийцы, не имеющего себе других защитников. Человеку, столько заботливому о своей репутации в потомстве, стоило чаще напоминать себе истину, им самим выведенную: II est plus facile de paraitre digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux que Ton exerce». «Это напоминает известное замечание Тацита о Гальбе: сарах imperii nisi imperasset, — подхватил я: — и, думаю, вы обращали внимание...» Но тут племянница разразилась бурными попреками, из которых следовало, что ей не доводилось есть более скучно с тех пор, как ее за обедом заставляли говорить по-немецки, и что если перебирать все то, на что в этом доме обращали внимание, не хватит жизни, о которой ее все время учат, что она слишком коротка. С комическим усердием унимал полковник избалованного ребенка, обещая ей беседы более приятные. Учитель глядел на все с терпеливостию своего ремесла; я наслаждался.
После ужина мы вышли из дому. Вечер был замечательный. В дремлющем воздухе издалека долетали кличи пастухов, привычно ругавших привычное стадо. Задумчивый месяц плыл сквозь меркнущие клубы облаков. От реки тянуло туманом. Роскошный аромат цветников мешался с запахами кухни, откуда слышался оживленный голос моего кучера, быстро сдружившегося со здешнею дворней: он повествовал о петербургской жизни, приписывая себе слишком многое в ее течении. Какие-то птицы пели в полковничьем саду: я представлял, как они перепархивают во тьме над белеющей Прокридой. Первая летучая мышь начертала свой готический полет над тихою листвою. Мне было грустно. Полковник не препятствовал мне удалиться в библиотеку. Снова посетил я собрание друзей, бывшее единственной отрадою для умного хозяина в его сельском одиночестве. Огонь свечи падал то на томы римских историков, то на сочинения итальянских поэтов. Среди этого избранного богатства не сразу заметил я старинный том Ларошфуко, переплетенный вместе с мемуарами Лашатра. Наш разговор за ужином пришел мне на память; я бережно снял книгу с полки. Знакомые мысли пробегали перед глазами, не столь волнуя мою душу, как бывало; я слишком свыкся с ним, чтобы испытывать что-либо более сильное, нежели память прежних увлечений. Вдруг рассеянный бег мой прервался. На широких полях я увидел сделанное пером примечание: рука, чьи шутки над «Телеграфом» читал я давеча, приписала имя одной дамы, известное среди здешнего дворянства. Подле этого имени Ларошфуко говорил об удовольствии говорить о себе (l'extreme plaisir), по силе которого должно подозревать, что оно не разделяется нашими собеседниками. Г-жа ***, которую при этом случае вспомнил полковник, обрела никем не оспориваемую славу пристрастием давать фейерверки, на которые изводила она большую долю семейных доходов и о которых выдерживала длительные бои с супругом, только тогда решавшимся возвысить голос своей осторожности, если очередное празднование русской славы приходилось на особенную засуху. Впрочем, и угроза доживать век на пожарище мало препятствовала ее усердию: пышно загорались картуши, затейливые фигуры колесили в ночных облаках, Россия, по печалях паки обрадованная, поднималась на Олимп рассказать о новом торжестве своего оружия, наполняя куртины и аллеи острыми пороховыми куреньями, и между тем как растревоженные поселяне, задрав головы к горящему небу, молили его обратить сии знаменья на добро, разборчивые знатоки, загодя приглашаемые со всей губернии в дом ***, делали замечания на аллегорическое зрелище. Кавелин, знакомый её по уезду, рассказал о ней государю. На каком-то бале тот сказал ей: «On dit, Madame, que vous donnez de grandes fetes». — «Oh, pas de grandes choses, Sire, — отвечала она: — j'ai entendu parler que c'est chez vous qu'on invente tant d'amusements a Noel». Это сказано было года два назад. Муж рассудил за благо увезти ее обратно в деревню. — Неожиданное применение, сделанное полковником, показалось мне метким и смешным, хотя не без желчи. Я начал смотреть внимательней — и не ошибся: имена, чуждые французскому уху, являлись на полях то здесь, то там, выведенные рукою полковника, всегда ровной, всегда неумолимою. Среди сего подневольного хоровода губернских лиц, обвиняемых кто в жеманстве, кто в глупости, кто в целомудрии от неумения его лишиться, нашел я и моего старинного знакомого, изобразителя чертей, чей архангельский промысел заставил меня покинуть Петербург и привел в эту библиотеку: полковник приписал его имя при изречении, гласящем, что наше благоразумие и наше имущество равно обязаны случаю (Notre sagesse n'est pas moins a la merci de la fortune que nos biens); это показалось мне слишком сурово, и я вступился бы за своего гостя в Шестилавочной, если бы спорить на полях не казалось мне неуместным. С каждою страницею сего язвительного синодика, куда, в одинокой тишине библиотеки, полковник вписывал примечания на ум и нравственность своей долговременной обители, находил я новые имена, из которых иные были мне знакомы; я не уставал дивиться: при том радушии, с каким хозяин мой предлагал любому охотнику в распоряжение свою библиотеку, лишь небольшая любовь его сограждан к чтению могла быть причиною, что он доселе сохранял добрые отношения со всей губернией.