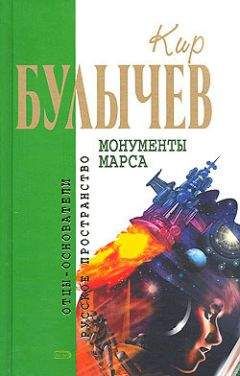Роман Шмараков - ПОД БУКОВЫМ КРОВОМ
После обеда, немного отдохнув в отведенной мне комнате, с портретами архиереев и перинами до потолка, я вышел из дому. Розы благоухали в опрятных цветниках. Я миновал их и углубился в обширный сад. Высокие вязы бросали качающуюся тень на сырой песок. Скоро я свернул на тропку, вольно вьющуюся в пышных зарослях орешника. Не заботясь о том, как выбираться из этого обширного лабиринта, над которым трудилось не одно поколение владельцев, я следовал за кривою, ветвившеюся дорожкою, пока она не вышла на большую прогалину. Я остановился. Птицы гулко пересвистывались. Предо мною высились слоистые руины кирпичной кладки. Повилика вилась в каменной пыли, украшая ее приятными белыми цветочками. Я оказался у стрельчатого окна, из которого глядел на меня батюшка ракитов куст, под окном еще виднелась стершаяся каменная надпись: «о divum domus Ilium et incluta bello moenia Dardanidum». — Это были развалины Трои. Давно не видал я подобного. Я запрыгнул вверх по кирпичам и замер, покачиваясь, на самой вершине: тяжелая сорока, неудобно мостившаяся на обгорелой печной трубе Укалегона, при моем возникновении сухо кивнула хвостом и шумно поднялась с исторического насеста. Я осторожно пошел по узкому краю. Кирпичный хрящ осыпался из-под ноги в качающиеся листья лопуха. Быстро я дошел до светлой лестницы в итальянском вкусе, которая, преградив мне однообразную дорогу канатного плясуна, поднималась подковою к исчезнувшей террасе, где, верно, некогда троянские старцы проницательно спрашивали Елену о греческих вождях. С вершины лестницы, у основания которой в печальной симметрии из темного кустарника поднимались две порфировые вазы, я заглянул вглубь, ухватившись за стенной зубец. Руины вились по берегу сухого оврага; в его зеленом сумраке подымался со дна широкий папоротник; остатки дозорной башни вырисовывались по склону далее, мирно осененные старою яблоней, на чьих отмерших, тронутых зеленым лишаем ветвях покачивалось покинутое и разрытое ветром гнездо горлиц. Я знал, что от меня требуется, и старался сохранять выражение, приличное мыслям о гибели царств. Протянув руку в сторону яблони, сонно лелеявшей на себе печальную эмблему разрушенной семьи, я громко сказал:
Я вем, приидет час, когда падет Пергам,
Падут и граждане, и с чадами Приам.
Моя роль была выполнена со всем прилежанием, а больше ждать от меня было нечего; с потоком кирпичного крошева я осыпался вниз, в сардонически дожидавшуюся меня поросль крепкой крапивы, чья негостеприимная сень взросла на обильной крови поборников и противников Илиона, и двинулся дальше, очень довольный увиденным и полагая, что дремучий лабиринт моего хозяина готовит мне еще не одно поучительное зрелище.
Рябиновая аллея привела меня к невысокому гроту. Я заглянул в него. Обычная философическая шутка таких заведений, зеркало, здесь отсутствовало. Наклоня голову, я вошел под искусственный свод и обвел сумрак рукою. Зубчатые раковины выступали из влажных стен. Осторожно двинулся я вглубь. Где-то вода неслась со сладким лепетом. Пробился свет, мерцая на стене; я споткнулся и стал. Подле меня смутно обрисовывался сидевший на земле речной бог. Бронзовый камыш увязывал его большую голову; борода струистыми завитками лилась по груди. Его ритон, небрежно наклоненный десницею, ронял масляно блестящую воду в выбегающий из грота ручеек. Опершись на отставленную левую руку, которая преградила мне дорогу, бог недвижно глядел в светлую зелень аллеи, и в темноте я не решился угадать, какое чувство запечатлелось на его бронзовых чертах. Поглядев вслед за ним из сумерек вертепа, где он властвовал неисходно, я заметил белую женскую фигуру в конце аллеи. Мы видели склоненную голову и кудри, развившиеся по плечам; по ней бежала вспыхивающая тень от ветра, гулявшего на вершинах; кажется, улыбка лежала на ее губах. Заросли смородины не давали видеть ее всю. Я вышел из грота, отряхнулся и вдоль тонкого ручейка пошел в ее сторону. На полдороге ручеек сбивался и уходил в придорожные поросли. Я подошел к ней один. Это была, на невысоком подножии, статуя Прокриды. Она полулежала на боку. Левая рука ее обхватывала стрелу, глубоко засевшую под грудью. Речному божеству суждено было вечно заблуждаться на ее счет. Полуулыбка ее приподнявшихся уст была выражением не кокетства, но последней судороги. Ноги вытянулись; ель, растущая у нее за спиною, казалась угрюмым вестником развязки, Тераменом этой драмы среди легкомысленного хора рябин. Что-то, вспугнутое мною, побежало прочь от статуи сквозь высокие колосья перекрестно качающейся травы. Я стоял подле изваяния, осыпанного порыжелой хвоей, думая о том, какое значение хотел придать художник сему расположению двух мифологических фигур в пустынной чаще. От изваяния Прокриды в перспективе недлинной аллеи открывался правильный сад из больших лип, высаженных по шнуру. Мне не хотелось навещать этот памятник старинной заносчивости, сгонявшей деревья на вахтпарад; я отыскал боковую тропинку, назначенную для задумчивых прогулок, и отдал ей должное, иногда присаживаясь на скамейке подле смородинного куста и глядя на широкую гладь пруда, мерцавшего между дерев, и на зимородка, качавшегося на низкой ветке подле почетной гробницы a la Ermenonville. Наконец голод дал мне понять, что я гуляю очень давно, а чтобы не смущать моей разборчивости, он притворился чувством приличия, сказавшим мне, что не следует так явно искать уединения в гостях. Отыскав солнце средь переплетшихся ветвей, я сделал попытку повернуть к дому, обошел некоторые места дважды, отмечая в них новые красоты, и наконец выбрался на широкую аллею, по которой доносился уже аромат резеды из партера. Поперек нее шла другая; на их перекрестке под ветвями стояла недвижная фигура. Я шагнул к ней с изумлением. Это была высокая, с двумя лицами герма, выделявшаяся из всего встреченного мною в парке очевидной древностью. Жирный мох тянулся вверх по ее глубоким трещинам. Лицо, ко мне обращенное, было лицо Сократа; скульптор прекрасно передал его известные черты. Великий мудрец глядел в ту сторону, куда шла парадная аллея и откуда ветерок доносил звонкий смех племянницы и голос полковника, занимавшегося хозяйственными распоряжениями. Я шагнул посмотреть, кого резец придал ему в сообщество; но к каменному столпу подступала дикая заросль разросшейся ежевики, из белых кистей которой я выгнал вереницу раздосадованных пчел. Я не знаю в русских садах ничего более колючего, чем ежевика; если мне скажут, что это свидетельствует о бедности моего опыта, то я во всяком случае предпочту свою бедность познанию иных, более колючих вещей. Любопытство стоило мне чувствительных жертв. Разводя цветущие стебли руками, как боязливый купальщик, я обогнул герму и обернулся ко второму её лицу. Оно было ссечено. Время, ли, небрежение, исступление религиозной пылкости или равнодушное могущество случая скололи его верхнюю часть так, что вместо лба, глаз и носа на купы ежевики, взволнованные моим вторжением, смотрел слепой камень с острыми краями; но можно было понять, что тот же резец исполнил здесь ту же работу и что в эту сторону, как и в противоположную, прежде взирали иронические черты, давшие Алкивиаду повод к сравнению с маской Силена, за которой прячутся божественные лики. Не помню, чтобы я встречал что-то похожее. С волнением думал я о странном человеке, запечатленном на колонне, о глубоком замысле ваятеля, никого не нашедшего ему в пару, как благочестивый Данте, когда он решался рифмовать имя Христово, — наконец, о темном происшествии, из которого герма вышла навек изуродованной. Я надеялся, что это огорчительное событие произошло еще на какой-нибудь мантуанской вилле времен Цезарей или Сфорца, но не после того, как герма досталась полковнику, — иначе его гнев противу того, по чьему недосмотру старинная драгоценность впала в такое печальное состояние, был бы слишком тяжел. Я подумал о досаде, с какою хозяин, рассчитывавший украсить сад этой жемчужиной к восхищению знатоков, вынужден был притулить ее, как нищего, в непосещаемом углу и обернуть обезображенным лицом в глухие заросли; подумал о том, как одинокое жительство в обществе своего характера, всегда неутешительном, омрачается горделивыми воспоминаниями молодости и славы, как приближающаяся немощь старости вынуждает его к печальным сравнениям — и наконец устыдился своих догадок: упражнять проницательность на счет моего радушного хозяина показалось мне неблагодарностью. Я вздохнул и начал выбираться сквозь кусты.
Племянница, ловившая в цветнике бабочек из желания убедиться, что она красивее, довела мне, что я прогулял чай (я просил прощения) и что до ужина мне нечего ждать. Мы разговорились; она оказалась очень милою, без всякого жеманства. Она немного скучала; в первый день по приезде она с восторгом обежала знакомые места — назавтра они казались ей глупыми; попечение полковника было ей слишком мелочным, хотя вызываемое глубокой привязанностью; но она ожидала приезда матери и своего младшего брата, думая с ними найти развлечение. Я развлек ее как мог рассказами из столичной жизни, беззаботно привирая на каждом шагу. Мы расстались совершенными друзьями; она обещала писать мне письма, а я обещал их читать; мы скрепили это взаимное обязательство клятвой. Появился полковник, где-то неподалеку выговаривавший старосте. Я рассыпался перед ним в искренних похвалах его саду. Самый умный человек находит что-нибудь в лести о себе; чтобы довершить впечатление, он провел меня в библиотеку. Ее тихое окно смотрело в качающийся сад. Смею сказать, его книжное собрание нашло во мне благодарного посетителя. С изумлением следил я на длинных полках деятельность упорного и неутомимого вкуса, в глубине России собирающего лучшие плоды европейской учености и гения. На столе лежал развернутый недавний номер «Московского Телеграфа». Журналист называл Байрона солнцем всемирной поэзии, протекающим по великой идее человечества, и судил о гении нынешних поэтов по их тяготению к поэзии байронической. На полях при этой фразе твердый карандаш полковника оставил саркастическое примечание. Я улыбнулся его выходке. До ужина оставался я в библиотеке, перелистывая то одну, то другую книгу и везде находя пометы, оставленные полковником, к которому все более проникался уважением.