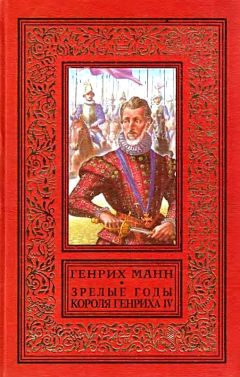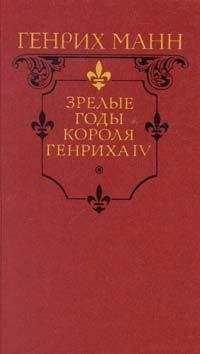Валерий Есенков - Казнь. Генрих VIII
— Упорствует. Не выдаёт.
Аббат висел низко. Руки были вывернуты назад. Босые почернелые ноги почти касались грязного пола. Голова свесилась. Тройной подбородок складками лежал на жирной груди. Лицо было усталым, но всё ещё круглым.
Генрих спросил:
— Хорошее вино?
Аббат разлепил пересохшие губы и чуть слышно сказал:
— Нравится... солдатам... твоим...
— Испанское или французское?
— Французское.
— Прекрасный вкус.
— Для причастия... паломников... прихожан...
— Им оно обходится раз в двадцать дороже. Отличный доход.
— Братии на воду и хлеб.
— И с волоса святого Петра?
— И с него.
— Боже мой, сколько же у бедняги было волос! Если не каждый монастырь кормится его волосами, то каждый второй.
— Он был святой.
— И кусочек креста, на котором распяли Христа? Я думаю, это не крест, а целая дубовая роща.
— Это чудо.
— Мои учителя рассказывали мне кое-что.
— Плохие учителя... еретики...
— И твоя икона излечивает больных?
— Не всегда.
— Только когда тебе надо?
— Бывает, чудо свершается само по себе.
— Тоже немалый доход.
— Монастырь обходится дорого.
— И потому тебе платят за все: за погребения, за крестины, за свадьбы, за исповедь.
— Платят они добровольно.
— Не совсем, ведь без благословения нельзя ни хоронить, ни родить, ни жениться.
— На то воля Господа... не моя...
— А дубы?
— Какие дубы?
— Роща твоя поредела.
— Много строится кораблей.
— Где же ты прячешь деньги?
— У меня ничего нет.
— Да, ты беден, как крыса. У братии общее всё. Об этом я тоже слыхал.
— Так заповедал Христос.
— Где же казна?
— Она не моя и не твоя.
— Ты прав, она не твоя. Но почему не моя?
— Она монастырская, общая. Была здесь и останется здесь. Я могу висеть, пока не умру.
Генрих сказал:
— Опустите его.
Подручный дёрнул конец, распустил узел и осторожно ослабил верёвку, пока ноги аббата не коснулись каменных плит, и снова её закрепил, чтобы аббат мог стоять.
Генрих сказал:
— Теперь не висишь. Где же казна?
Аббат потянулся, расправляя застывшее тело, скривился от боли и промолчал, как будто не мог говорить.
Генрих внимательно посмотрел на него и приказал:
— Дайте вина.
Следователь вскочил, нацедил полную кружку и протянул её королю. Генрих поморщился:
— Не мне, а ему.
Аббат сделал несколько жадных глотков и остановился, видимо не желая пьянеть. Монарх с одобрением посмотрел на него:
— Теперь говори.
Аббат облизнул влажные губы, вздохнул глубоко и уже ясным голосом возразил:
— Нескажу.
— Почему?
— Деньги братии. Ты не имеешь права на них.
— Я король.
— Платить тебе я не обязан.
— Ведь ты платишь Римскому Папе.
— Он глава церкви.
— Меня признал главой церкви парламент.
— Парламент мне не указ.
— Не король. Не парламент. Кто же тогда?
— Папа и епископ, назначенный им, но не ты.
— Однако ты подданный английского короля!
— Нет, я подданный Римского Папы! Только его! Никому другому я не обязан служить!
— А Господу?
— И Господу тоже.
Генрих сделал повелительный жест:
— Поднимите его.
Подручный схватил верёвку, резко дёрнул её. Аббата точно подбросило вверх, но не высоко. Почерневшие пальцы ног слегка касались каменных плит.
— Довольно. Ты выводишь меня из терпения. Где твои деньги?
Аббат кривился от боли в вывихнутых руках, но молчал.
— Где твои деньги?
— У меня нет ничего.
Генрих махнул, и аббата подняли выше.
— Где твои деньги?
Из расширенных глаз несчастного выкатились две слёзы.
— Где твои деньги?
Молчание выводило короля из себя. Он вскочил на ноги и закричал:
— Хорошо! Я уйду! Палач возьмёт паклю, вымочит в масле, положит на темя тебе и подожжёт. Так вы пытаете еретиков. Посмотрим, понравится ли это тебе.
Лицо аббата исказилось от ужаса. Он прохрипел:
— Хорошо. Я скажу.
— Опустите его. Говори.
— В моей келье... Фреска на задней стене... Рожденье Христа... Справа из ясель на Спасителя смотрит бычок... Нажмите на рог...
Следователь вскочил и крикнул солдат. По ступеням лестницы застучали их сапоги.
Генрих презрительно усмехнулся:
— Вот видишь, как это просто. И чего было мучить себя! В самом деле, служи Господу, а не золотому тельцу.
Медленно поднялся по лестнице, прошёл коридором и вышел во двор. Солнце сияло. Шумели старые липы. Было тепло и легко. Сел на скамью и сидел неподвижно, не думая ни о чём. Только сердце неровно билось. Так прошло с полчаса. Следователь вышел и доложил:
— Золота в слитках и утвари на глаз фунтов до ста. Серебра, тоже на глаз, фунтов четыреста или пятьсот. Алмазы, изумруды, опалы надо считать.
Генрих поднялся, тяжело и неловко:
— Считайте...
Пошёл к жеребцу, стоявшему у коновязи. Сам отвязал повод. Сам поднялся в седло. Пробормотал:
— Господу служит... Терпеть не могу...
Ссутулился и толкнул жеребца. За ним потянулся конвой.
Они выехали из монастырского парка, миновали сосновый лесок и въехали в дубовую рощу. Под старым дубом стоял спокойно и стройно олень. Здесь право охоты принадлежало монахам. Те охотились редко, и всадники не испугали оленя.
Генрих оживился, обернулся, вытянул правую руку. Начальник конвоя дал шпоры коню, подскочил, подал, зная привычки своего повелителя, лук и стрелу. Король быстро и ловко натянул тетиву, стрела коротко свистнула, олень вздрогнул, пал на колени и медленно завалился на бок. Генрих точно проснулся, поглядел на животное с сожалением и поскакал.
Глава четвёртая
ВЫБОР
Томас Мор опустился на корточки и прислонился к стене, изнемождённый, истощённый душой, цепенел, обмирал, ничего не видел перед собой. Пламя факела, забытого Кромвелем, почти не достигало узника. По застылому худому лицу бродили бледные отсветы. Оно было сосредоточенным и угрюмым. Глаза не мигая глядели перед собой в черноту. Чернота расплывалась, медленно двигалась, точно кружилась, покрывая все предметы вокруг то распадавшейся, то непроницаемой пеленой. Временами он вдруг выходил из тупого оцепенения, вспоминая о том, что ещё не ушёл, что, покуда он жив, для Томаса Кромвеля не будет простора. Ради этого было необходимо остаться, и оправданной представлялась любая цена. Тогда глаза его испуганно расширялись, что-то различая в прорехи распадавшейся пелены, рот удивлённо, расслабленно раскрывался, часто и со свистом втягивая в себя промозглый, точно негнущийся воздух.
Так вздыхал несколько раз и вдруг принимался думать о том, что Томас Кромвель послан был королём, иначе быть не могло, а если так было, он ещё успел бы попросить о помиловании. Рано ликовал Томас Кромвель, хладнокровный убийца: он бы остался, что-нибудь сделал бы, чтобы остановить новую кровь и новый разбой. Но если попросит помилования, станет себя презирать, ему будет нечем и незачем жить. И вновь глаза упирались в непроглядную черноту, губы плотно сжимались, грубо проваливаясь в углах, выражая то ли бессилие духа, то ли презрение ко всему.
И вдруг усмехался брезгливо, нехорошо, подумав о том, что нужна, ещё, должно быть, нужна его жизнь.
Для чего?
И вновь хватал склизлый негнущийся воздух распахнутым ртом.
Так сидел на корточках, опираясь привычно на пятки, как сиживал часто, погружаясь в раздумье. Когда же ноги затекали, шевелился бездумно, тоже привычно, вытягивал их, не ощущая удовольствия затихающей боли, и опускался на каменный пол, запрокинувши голову, прижимаясь затылком к стене. Мерзким холодом тянуло от каменных плит. Сыростью стены постепенно набухала одежда, потерявшая форму от долгого заточения.
Да, в этом было всё дело: испросив милость у короля, сохранил бы только жизнь тела, но стал бы предателем себя самого, подлецом и по этой причине таким же слабым, таким же податливым и бессильным, как неё, кто давно уже предал и продал себя; был бы унижен и презрен, презирал бы себя. Какой соблазнительный был бы пример... Очищение церкви? Истинно христианское благочестие? Мечтанья о равенстве, о братской, истинно христианской любви? Всё тогда было бы вздор...
Факел вдруг зашипел, задёргалось, пышно чадя, потемневшее пламя, точно предупреждая его, и внезапно исчезло совсем. Остался тлеть один уголёк, да и тот истощился и скоро угас.
Томас Мор сидел в полутьме. Светлое июльское утро искоса заглядывало в окно, глубоко сидевшее в толще крепости, приспособленной под тюрьму. Ноги застыли. По телу пробегала зябкая дрожь. Ему следовало встать и согреться ходьбой, но узник подумал об этом лишь вскользь и тотчас забыл.
Жить презренным не хотел. Лучше было сидеть неподвижно, замёрзнуть, застыть. Сжался в комок, обхватив руками колени, а мысли его полетели туда, где уже не было и быть не могло ничего.