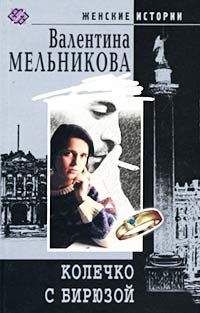Франсуаза Шандернагор - Королевская аллея
Но человек предполагает, а Бог располагает. Мы строили планы, не зная о том, что мой отец уже два месяца как умер. Оказалось, что он не был в Париже, а, покинув нас, отправился в Лондон, оттуда во Фландрию, в Лион и, наконец, в Оранж, где и скончался под чужим именем, так и не осуществив задуманное путешествие в Константинополь. По правде сказать, я думаю, что бедняга был подвержен душевной болезни, называемой в Пуату «горячкою»: тот, кто ею страдает, не в состоянии усидеть на одном месте, где бы ни находился.
Тем же октябрем 1647 года мы не знали и другого — что моему несчастному брату Констану осталось жить всего несколько недель, и что мне уже больше не суждено увидеть свою мать живою.
Впрочем, даже будь мне известно, что я осиротела, я бы вряд ли сильно горевала.
Итак, я равнодушно глядела вслед госпоже д'Обинье, уезжавшей от нас по парижской дороге; на прощанье, вместо тщетно ожидаемого поцелуя, я получила от нее лишь совет — «жить, опасаясь всего со стороны людей и ожидая всего со стороны Бога».
Глава 5
Я нашла Мюрсэ сильно переменившимся. Правда, что и сама я вернулась туда совсем иною.
Американские ливни, под коими все росло гораздо скорее, чем под французским солнцем, помогли и мне быстро развиться и созреть. Я выглядела старше своих двенадцати лет и была даже чуточку выше моего кузена Филиппа, которому сравнялось пятнадцать; однако то, что я выиграла в росте, я потеряла в душевном развитии. Будучи в возрасте, когда еще не осознаешь смысла вещей и мироздания, я за короткий трехлетний период увидела столько новых мест и пережила столько приключений, что душа моя вышла из них расстроенною и смущенною, а нрав стал злым и дерзким. Если в детстве я была жизнерадостной болтушкою, то теперь не смеялась вовсе, а говорила чрезвычайно мало. Окружающие люди и события воспринимались мною с тупым безразличием; я научилась ожидать от жизни всего, кроме счастья (хотя на островах вовсе не была несчастною), вернее сказать, я более не надеялась обрести то мирное счастье, которое дарует телу покой, а душе ясность.
Находясь в таковом состоянии, я поначалу затруднялась беседовать с моими кузенами де Виллет. Да и можно ли было признаться им, что деревня, дом, семья, о которых я так горько тосковала в разлуке, обманули мои воспоминания, разрушили надежды?! Я хранила в памяти образ цветущего зеленого края, светлого замка, прелестных детей. Но, прибыв сюда дождливой осенью, увидела холодное, мрачное и грязное захолустье; отсыревшие стены сочились водою, почва обратилась в сплошное болото. Кузины мои, еще не вышедшие замуж, показались мне унылыми старыми девами, вдобавок, весьма провинциального вида и сильно подурневшими; что же касается дядюшки, то он никогда не ездил дальше Марана и не знал ровно ничего, кроме своей Библии и счетов; по нескольким внушениям, которые он мне сделал, я убедилась, что он являет собою тип самого ограниченного протестанта.
Смерть брата Констана, найденного утонувшим в крепостном рве замка, всего через несколько дней после нашего прибытия, окончательно подавила меня. До сих пор не знаю, как это произошло. Позже я часто спрашивала себя, уж не решил ли несчастный, обиженный жизнью юноша покончить с собою. Тот факт, что мне и доселе неизвестно, где он похоронен и лежит ли в освященной земле, доказывает, что подозрения мои не беспочвенны. Однако, если я и не узнала, где его погребли, то по самой странной случайности знаю час похорон. Два дня спустя после несчастья я сидела в комнате кузины Мари и глядела на Сьекский лес за рекой, как вдруг у подножия замка появились Урбен Апперсе, Пьер Тексерон и Тома Тиксье; они вынесли гроб, погрузили его на плоскодонку и взошли на нее вместе с моим дядею. Судно медленно пересекло реку по направлению к лесу, высадившись на берег, трое мужчин подняли гроб на плечи и скрылись в чаще. Я еще долго видела огонек фонаря, которым дядя освещал им путь; потом он померк, а вместе с ним и память о брате; никто более никогда не заговаривал о нем.
Я продолжала сидеть у открытого окна, облокотясь на подоконник и устремив взгляд в темноту. Протекли минуты, а, может быть, и часы, но я не замечала, что вся застыла от холода. Когда вошедшая Мари вывела меня из этого странного оцепенения, я даже не сразу смогла пошевелить оледеневшими пальцами. Несколько дней после того меня мучила лихорадка, но я не задавала никаких вопросов и скрывала слезы.
Глубоко убежденная, что в Мюрсэ мне не суждено обрести долгожданное спокойствие, что я рождена на свет, дабы претерпеть все мыслимые мучения, все потери и разлуки, я просила Господа оказать милость и забрать меня к себе так же мгновенно, как это случилось с Констаном.
Но, поскольку умереть, когда хочется, невозможно, даже от тоски по другим умершим, я пережила мое первое отчаяние. Тетушка воспользовалась этим доказательством моего здоровья, чтобы начать терпеливую осаду моей души, чьей первой наставницею она была, безраздельно руководя ею в течение семи-восьми лет. Она с замечательным умением и добротою принялась по камешку восстанавливать это обрушенное здание и на сей раз ей удалось выстроить его нерушимо крепким. Не обижаясь моим молчанием, отказами или резкими возражениями, что изредка вырывались у меня, искусно прибегая в нужный момент к нежности или твердости, к ласкам, увещеваниям или религии, она сумела открыть мое замкнувшееся сердце и успокоить смятенный разум, снова вверенные ее попечению.
Она заполнила пустые часы безделья множеством занятий, изгнавших мою скуку — шитьем, вышивкою, даже плетением корзин, — и следила за тем, чтобы у меня в руках всегда была какая-нибудь работа. Пустоту же моего сердца она заполнила любовью к Богу, прекрасно зная, что Отец небесный воздаст мне тою же любовью куда вернее, чем земной мой родитель, и уж, по крайней мере, ничем не обманет моих надежд.
В мое первое пребывание в Мюрсэ тетушка преподала мне христианскую мораль и основные религиозные заповеди. Теперь же она приобщала меня к истинной вере. Каждый день, во время тех очаровательных и остроумных бесед, коих секретом она владела в совершенстве, я узнавала о сладости божественной любви, о свете благочестивых упований. Она учила меня, что молиться нужно так же просто и естественно, как дышать, в ожидании, когда свет Господен осияет мою душу. Она сделала меня своею помощницей в благих делах: раз в неделю я должна была самолично раздавать беднякам милостыню у подъемного моста замка. И, наконец, она сразу поняла, что мне, в моем душевном смятении, необходима постоянная религиозная практика; единственной религией, которую она могла предложить мне, было протестантство, и тетушка решительно, без сомнений, которые смущали ее до моего отъезда в Америку, посвятила меня в его обряды; я не только сопровождала ее на воскресные проповеди, но выучила наизусть катехизис пастора Дреленкура, научилась петь кальвинистские псалмы и гимны, читала еретические сочинения реформаторов и присоединяла свой голос к молитвам моих близких.
Мало-помалу, под влиянием этой доброй святой феи, я вновь обрела вкус к жизни и силу любить. С приходом лета ко мне вернулись цветы на полях и забытые детские игры. Я кувыркалась в сене вместе с Мари и Филиппом; игры в прятки и в «вора-сыщика», салки, кегли, бабки — все забавляло нас, все было в радость; я искуснее других играла в бирюльки, где главное — вытащить «короля»; могла ли я видеть в этом пророчество?!
Моя мать, приехавши в Париж, узнала одновременно о смерти мужа, которого ненавидела, и единственно любимого ею сына. Отныне ничто не связывало ее с Ниором. Она перестала писать нам; мы сочли бы ее умершею, если бы тетушка совершенно случайно не узнала, что золовка ее живет в крайней нищете, в каморке при меблированных комнатах прихода Сен-Медар; бедной женщине приходилось тяжко работать, чтобы добывать себе пропитание, ибо она располагала всего двумястами ливров годового пенсиона; притом она ни от кого не хотела принимать помощи, но тетушка все же переслала ей немного денег через госпожу де Ла Тремуй.
Судьба госпожи д'Обинье огорчала меня, когда о ней говорили в моем присутствии, но в остальное время я заботилась о ней не более, чем она обо мне. Я считала себя членом семейства де Виллет и стремилась поскорее забыть годы, прожитые вне Мюрсэ.
Зато я с удовольствием получала вести о моем брате Шарле, жившем всего в нескольких верстах от нас, в замке Ламот-Сент-Эре. Здоровье его было прекрасно, поведение же оставляло желать лучшего. Лишенный родительского надзора и руководства, которые были ему весьма необходимы, он скорыми шагами шел по пути своего отца, и его детская шаловливость превращалась у пятнадцатилетнего пажа, каковым он стал, в настоящее беспутство. Меня это печалило, — я питала к Шарлю теплые чувства, — однако, расстояние, нас разделявшее, и мой юный возраст не позволяли мне бранить его, и я только просила Господа осенить моего брата своею милостью.