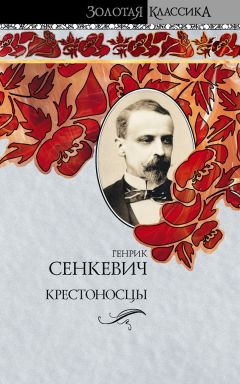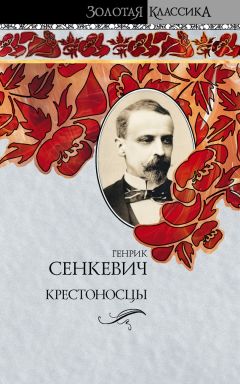Абраша Ротенберг - Последнее письмо из Москвы
— За десять лет до твоего рождения эта страна была очень несправедливой к людям. Все богатство принадлежало небольшому количеству людей, и они тратили его на пиры и пьянки. Они обирали народ и жили ценою голода простых людей. Народ еле выживал, в то время как царь и его свита проматывали заработанные им богатства. Ты знаешь об этом?
— Знаю.
Лузер не обратил внимания на мой ответ и продолжал:
— За десять лет до твоего рождения в этой стране существовал рабский труд. Хозяева земли относились к тем, кто работает на ней, как к скоту. Они не умели писать, читать, не могли учить своих детей, которые потом тоже становились рабами, как и их родители. Эти люди полностью зависели от воли и прежде всего капризов своих хозяев. Как, по-твоему, это справедливо?
— Мне об этом уже говорили в школе.
— Я могу привести тебе кучу примеров, но ты и без них поймешь, что я хочу сказать. Мы жили в бесчеловечном, аморальном обществе. Понимаешь, что я хочу сказать?
— Да, понимаю, — ответил я, чтоб он отцепился, поскольку его разглагольствования начали мне докучать, — все это мы уже проходили в школе.
— Твои бабушка и дедушка, и мы все испытывали на себе эту несправедливость, пока не случилась революция. Я поддержал эту революцию, а твой отец — нет. Я верил в нее, а твой отец — нет.
В его словах я различил скрытые нападки на отца. Мне это было унизительно, но дядя не обратил на мои чувства никакого внимания и продолжил:
— Кажется, ты меня не слушаешь.
— Слушаю.
— Когда начиналась революция, твоему отцу было четырнадцать лет, а мне двенадцать. Нам дали возможность учиться, стать частью истории. Понимаешь, что это значит? Не понимаешь, потому что ты родился уже при социализме и пользовался всеми его преимуществами. Не знаешь, что бывает по-другому. Или, может, знаешь?
— Не знаю.
— Тебе сейчас семь лет, и ты уже кое-что понимаешь — ты можешь понять то, что я пытаюсь донести до тебя. Я буду говорить о твоем отце. Возможно, тебе будет больно слышать то, что я собираюсь сказать.
Мне стало не по себе, но дядя не замечал этого и продолжал свои рассказы:
— Для твоего отца не существовало революции: он считал, что все осталось, как прежде, при царе. У него была возможность учиться, как у меня, но он к этому не стремился. Он только через десять лет понял, что в социалистическом обществе нет места для таких, как он. И что он сделал? Сбежал. Бросил свою жену с ребенком и исчез. Чтоб устроиться где? В капиталистической стране. Я не соглашался с ним, но смирился с его решением. Но на этом мое терпение заканчивается: вы с матерью хотите последовать за ним, и мне кажется, что это неправильно. Он не имеет права лишать тебя возможности расти и пользоваться всеми благами социалистического общества.
У меня не было аргументов в защиту отца или в опровержение дядиных слов, но мне было больно оттого, что тот не брал во внимание мои чувства. Я вспомнил беседу с Лейзером в Чоне и неожиданно ответил:
— Дядя Лейзер говорит, что коммунизм будет уничтожен.
Дядя Лузер растерялся и не мог собраться с мыслями, чтоб ответить.
— Забудь ты о Лейзере. Он никогда не думает, прежде чем говорит.
И добавил:
— Возможно также, что ты неправильно его понял.
— Он повторял это мне несколько раз. Говорил, что Бог придет и уничтожит коммунистов, потому что они не верят в него.
Дядя Лузер явно не знал, что сказать. И хоть мы были одни, он обратился ко мне почти шепотом, будто боясь, что нас подслушают:
— Надо, чтоб ты кое-что пообещал. Сможешь?
— Да, — ответил я удивленно.
— Пообещай, что больше никогда не повторишь того, что только что мне сказал.
— Почему?
— Пообещай.
— Обещаю.
— Ты должен пообещать еще кое-что.
— Что?
— Никогда не рассказывай никому того, что рассказал мне о дяде Лейзере.
— Обещаю.
Он взял мои руки в свои и тихо сказал:
— Я тебе доверяю.
Я не понимал, отчего он так встревожился, и не собирался выяснять, поскольку был намерен хранить молчание, как того от меня потребовали.
Упоминание о Лейзере разрядило атмосферу нашей беседы. Мне показалось, что мы до чего-то договорились, но дядя опять взялся за свое:
— Я хочу поговорить о твоем отце.
Я заговорил с видом триумфатора, исполненный гордости. Мне казалось, что я наконец подобрал обезоруживающие аргументы:
— Папа построил для нас дом, с отдельной квартирой для меня.
— Отдельной квартирой для тебя? И зачем тебе отдельная квартира?
— Чтоб была.
— И ты едешь из-за этой квартиры?
— Не только, еще много ради чего.
— Ты понимаешь, что через несколько лет у всех советских юношей будет по собственной квартире? Поверь, ты увидишь это собственными глазами.
Меня удивил его прогноз, но я никак его не прокомментировал.
— Ты слишком мал, и мне нелегко обсуждать с тобой такие сложные темы. Очень прошу, поговори со своей матерью. Вместе вы решите, ехать вам или нет.
— Мама злится на меня.
— Ну что ты за глупости говоришь? Мама любит тебя и сделает все, чтоб ты был счастливым.
— Но она почти не разговаривает со мной.
— У нее много дел, и потому она нервничает.
Дядя встал и подошел ко мне. Я с трудом сдерживал слезы. Мне показалось, что он хотел что-то сказать, но вместо этого он лишь ласково погладил меня по голове, а потом сел на свое место и вкрадчиво заговорил:
— Твоя мать — великая женщина. Ей довелось преодолеть очень многое. Она во всем преуспела и сейчас, если бы захотела, то смогла бы забрать тебя в Москву. Понимаешь, что это значит? Это особая привилегия, особое преимущество. Вот почему она так обеспокоена. Если бы твой отец мог вернуться, все было бы гораздо проще, но это совершенно невозможно. Вот в чем проблема.
Этот разговор расстраивал меня все больше, но дядя не унимался.
Он уже даже не обращался ко мне, потому что был уверен, что я не пойму его. Кажется, он говорил лишь для того, чтоб самому убедиться в доброте собственных намерений, поскольку понимал, что на кону еще кое-что, что он должен защитить, — он хотел защитить меня от ужасов жизни в капиталистической стране, он был уверен, что в Советском Союзе я буду счастлив, что моя жизнь здесь будет иметь смысл. К такому выводу я пришел годами позже, а тогда просто выслушивал его аргументы.
— Вот в чем проблема, — повторил он, — твой отец решил жить в Аргентине, в стране, где рабочих эксплуатируют так же, как при царе. Разве тебе и твоей матери место в такой стране? Разве это справедливо?
Я потупился, делал вид, что изучаю пол, и молчал. Лузер не отступал.
— Но ты тоже имеешь право выбирать, потому что знаешь разницу между прошлым и будущим. Буэнос-Айрес — это прошлое, это несправедливость и неравенство. Будущее в социализме: там процветание и справедливость. Понимаешь, в чем для тебя заключается разница? Решай, в каком мире ты хочешь жить, и хорошо подумай, пожалуйста, прежде чем отвечать мне на этот вопрос.
Но у меня уже был заготовлен ответ, и я выждал всего пару секунд, прежде чем дать его. Дядя смотрел на меня в ожидании решения, и он не сомневался в том, какой ответ получит. Его лицо выглядело удивленным, когда он понял, что ошибался.
— Хочу быть со своим папой, — категорично заявил я.
Лузер недовольно посмотрел на меня, но не настаивал на своей правоте. Я наблюдал, как он взял книгу и устроился на стуле поудобнее, чтоб продолжить чтение.
Я все сидел и не знал, как мне поступить, пока не услышал смех теток, которые вместе с матерью возвращались домой. Я выбежал им навстречу и, запыхавшийся, подбежал к ним. Все они раскрыли объятия, чтоб поймать меня, но я побежал на руки к матери. Я чувствовал себя защищенным и счастливым, поскольку вмиг ощутил, что она со мной заодно. С того момента никто больше не мог помешать мне быть с отцом. Ни с того ни с сего, к всеобщему удивлению, я заплакал. Никто не понимал причины моих слез. Даже я сам.
Вскоре мы начали собираться в путь. Все осложнялось политической обстановкой-международным положением и внешними конфликтами Советского Союза, к которым добавлялись транспортные проблемы, связанные много с чем.
Поскольку мы выезжали из маленького Западенца, перед нами было долгое путешествие. Нам надо было пересечь советские территории, добраться до нейтральной страны, через которую можно было бы попасть в Германию, а там в Бремене сесть на пароход и отчалить в Аргентину.
Было необходимо взять с собой домашний скарб — матрацы, подушки, одеяла, которых в Аргентине, по словам отца, не было. Предстояло узнать, как же там спят местные жители.
В доме постоянно крутились знакомые и родственники, которые приезжали проведать нас и попрощаться. Некоторые из них восхищались мной, будто героем какой-то фантастической одиссеи. Я представлял себя бесстрашным путешественником, хотя иногда я испытывал страх перед неизвестными угрозами. Я задавался вопросами: как мы будем прощаться, как переживем расставание, морское путешествие и связанные с ним опасности, каким будет дом моего отца и сам отец? Будут ли те новые родственники так же рады мне, как те, что остаются здесь?