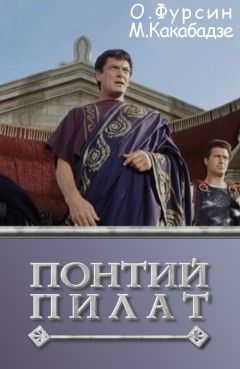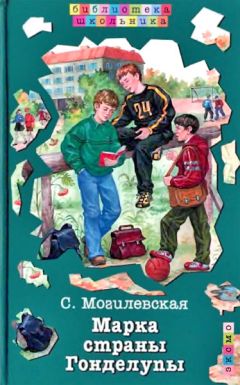Софья Могилевская - Театр на Арбатской площади
И Санька вошла в каморку. Ее встретил восхищенный возглас:
— Ах, дедушка, дедушка… Да отколь ты такую выискал? Шарман, шарман! Боку шарман… Ах, ах, ах, до чего же боку шарман, жоли, бель! — лопотала и лепетала маленькая девушка под стать такому же маленькому старичку.
Была она вся беленькая, со светлыми кудряшками, которые вились вдоль щек. Ясные ее глазки светились, искрились, смеялись навстречу Саньке. Веселые, легкие слова тоже летели прямо на Саньку. Впрочем, того, что говорила девушка, Санька почти не понимала. Слова ее для Санькиного слуха были мало вразумительны. Но все же она уловила — кого-то девушка уж очень хвалит, так хвалит, что даже захлебывается похвальбой. Но кого же? И Санька ошалело повертела головой, поискала: «Кому же такие слова расточаются?»
— Где нашел, там теперь такой нет, Анюточка, — сказал старик, подталкивая Саню к ветхому креслу с ободранной обивкой желтого атласа. — Садись, сударушка. Присаживайся, в ногах правды нет.
Санька осторожно присела на самый край, глаз не спуская с беленького личика девушки. А та, наморщив тонкий носик, воскликнула:
— Сколько раз просила тебя, дедушка, не называй меня Анютой. Запомни, дедушка: Анета… Да, да, Анета!
— Чем же Анюточка-то плохо?
— Фи, совершенная деревня!..
— Эх, — старик сокрушенно вздохнул, — совсем офранцузилась ты, внучка!.. Скоро забудешь, как на родном языке надобно говорить.
Между тем беленькая девушка продолжала смотреть на Саньку, всплескивая руками (а ручки-то у нее были маленькие-маленькие, будто лапки лягушонка), и приговаривать свои «боку шарман», и снова «боку», и опять «шарман», и еще какие-то слова. И все «ах» да «ах», «ох» да «ох»…
Господи, уж не колдует ли? Саньке захотелось осенить себя крестным знамением. Постеснялась. Однако про себя на всякий случай прошептала: «Свят, свят, свят…» И все же наконец поняла, что все слова, какие девушка произносила, сияя восторженными глазками, относятся именно к ней, к Саньке. Это ее, Саньку, девушка расхваливает на все лады и словами понятными и вовсе непонятными.
Тут Санька скинула с головы платок, поскорее пригладила ладонями кудрявые волосы, перекинула со спины на грудь тяжелую косу и засовестилась.
— Да что вы, барышня!.. — и, зардевшись от удовольствия, заслонилась уголком платка. Дома ей ни мачеха, ни сестрицы хорошего словца ни разу не сказали…
Старичок же усмехнулся:
— Какая она тебе барышня! Анюточка прислуживает…
— Опять, дедушка?! — Девушка притопнула каблучком.
— Прости, мой ангельчик, не сердись! — И, обращаясь к Саньке, Анюточкин дедушка пояснил: — Внучка моя прислуживает мамзель Луизе Мюзиль. А мамзель Луиза Мюзиль, сударушка моя, не кто-нибудь, а французская актерка. Прежде в комедиях всех со смеху морила, премиленькая была особа. Теперь же перешла на амплуа благородных матерей. И еще в разных барских гостиных французские романсы поет. Так, мой ангельчик?
Анюточка подтвердила и тут же прибавила:
— А я ейная любимая камеристка! — При этих словах она сделала поклон: одну ножку под себя подогнула, ухватила пальцами широкую юбку и низко присела.
И снова Санька подивилась: все не по-людски. Насмотрелась она за нынешний день такого, что во всю свою жизнь не видывала…
— А тебя-то как звать-величать? — спросил дедушка. И в который раз за день Санька назвалась:
— Александрой нарекли. Дома Саней зовут…
— Фи донк! — вскричала Анюта. — Опять совершенная деревня. Я буду тебя звать Александрина…
— Нет, уж нет, Анюточка! — в полном возмущении воскликнул дедушка. — Прости, ангельчик мой, опять оговорился… Какая она Александрина? Помилуй бог!
— Тогда, ма шер, будешь Санечка! — И девушка, вскочив с места, кинулась обнимать и целовать Саньку.
О господи! А обнимать-то зачем? А целовать-то зачем? Чудная все же эта самая Анютка…
— Небось есть хочешь? — спросил дедушка.
— Ох, охота!.. — шепотом простонала Санька.
За чем же дело стало? Ну-ка, внучка, собери на стол! Чтобы дым коромыслом и последняя копейка ребром! — И старичок, Захлопав ладошкой об ладошку, радостно засмеялся.
— Сейчас, сейчас, дедушка! У меня тут много всего припасено.
— Откуда? — строго допросил старичок.
— Да не страшись, дедушка. Чужого не возьму. Это Фекла мне в узелок навязала: снеси, мол, своему дедушке. У него небось и сухой корочки не имеется… У нас третьего дня суаре был, гостей принимали, много чего осталось. А Фекла, — пояснила Анюта Саньке, — это наша с мадемуазель Луизой кухарка…
Быстрехонько развязала узелок и давай выкладывать на стол и то и се. И не простое, а все одно господское, невиданное. Выкладывала и объясняла:
— Сие паштет называется… а сие — бланманже…
Когда досыта наелись, Санька все без утайки рассказала. А чего ей было таиться? Вся была как на духу.
— Так, так… — задумчиво глядя на Саню, промолвил старичок. — Стало быть, и не приметила, с каким чувством Петр Алексеевич Плавильщиков играл нынче свою роль? Как обращался к Злодею Креону…
Тут старичок проворно вскочил со своего места, выпрямился, насколько ему позволил малый рост, и гордо приподнял седую голову. Заговорил голосом, полным величайшего достоинства:
— Но не увидишь слез и не услышишь стона,
Нет, ими веселить не буду я Креона!
И, сделав паузу, он торжествующе сказал:
— Хотя я в нищете, но не сравнюсь с Креоном!
Я был царем, а ты лишь ползаешь пред троном.
При последних словах отвращение загорелось в его глазах. Санька вздохнула. Нет, ничего такого она не слыхала и не приметила. Так и есть, все главное проспала.
— А что в публике-то делалось, ай-яй-яй! Театр гремел от рукоплесканий. Да, сударушка, хоть должность моя и небольшая, из суфлерской будки реплики актерам подавать, однако же и я рыдал от избытка чувств… О господи боже мой, что за талант… Что За истинно русский талант! А у нас на языке все французы…
Последние слова он произнес, поглядев на внучку. Но та за словом в карман не полезла, сама напустилась на дедушку:
— Ну и не приметила… Ишь какое дело! Не вздыхай, Санечка! Вот посмотришь на французских актеров — все приметишь. До чего же авантажны, распрекрасны! А туалеты… заглядишься! На французском говорят так ловко, так отменно — ничего не понять. Однако для уха одна прелесть! Вот сведу тебя на французов, тогда узнаешь…
Глаза у Анюточки разгорелись, и, говоря все это, она то и дело поглядывала на дедушку.
Санька покивала головой и стала подыматься: пора и честь знать. Отвесила поклон и дедушке и внучке: спасибо за ласку и угощение. Накинув на голову свой пунцовый полушалок, попросила:
— Покажите, как на улицу выйти. Пойду домой… Анюточка заплескала белыми ручками:
— Да Санечка, да голубушка, да в такую-то пору? Да разве возможно? Да ведь полная ночь на дворе… Да не пущу я тебя! А вдруг какие злодеи на тебя, на такую раскрасавицу, позарятся… Да слыханное ли дело? Да нет, нет, нет…
И, расцеловав Саньку, сказала, что дедушка Степан Акимыч все равно спать не ляжет, потому что дедушке надобно к утру для мадемуазель Луизы роль переписать. Вот они вместе и лягут на дедушкино место. А коли дедушке шибко захочется спать, пусть возьмет вот это креслице атласное, на коем Санечка сидит, да еще второе, составит их и вполне поместится! А поутру она снесет роль мадемуазель Луизе. А завтра, если Санечке не захочется поглядеть на французских актеров, пусть идет домой…
— Только, дедушка, ты постарайся! В тот раз мадемуазель Луиза сказывала, три ошибочки допустил…
— Ладно, ладно, ангельчик мой, постараюсь… Как для тебя не постараться! Хоть я по-французски худо маракую, однако роли переписывать мне не впервой.
На том и порешили. Санька не стала противиться. Устала она до смерти, да и боязно было глухой ночью по улицам ходить. Не успела ее голова коснуться подушки, как уснула крепко-накрепко.
А проснувшись поутру, Саня удивилась: где она? Рядом спит молоденькая девушка. В окошко светит солнце. На столе, оплывая, чадит и догорает свеча. И маленький седенький старичок, склонившись над бумагой, старательно скрипит высоким гусиным пером…
Потом, вспомнив вчерашнее, подумала: стало быть, всю ночь так и не ложился дедушка, всю ночь не сомкнул глаз? Переписывал роль для французской актерки, старался для своей любезной внучки Анюточки…
Глава одиннадцатая
О том, как завершились эти сутки
Было позднее утро, когда Саня, выйдя на кривую Арбатскую улицу, направилась в сторону дома. Осеннее солнце чуть поднялось над крышами, и тени от домов, от деревьев, от высоких заборов протянулись поперек улицы, достигая противоположной ее стороны. Кресты же церквей черными тенями распластались прямо по кровлям.