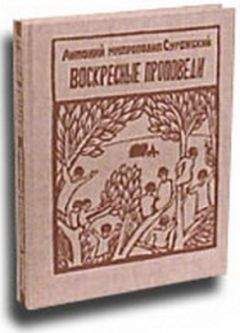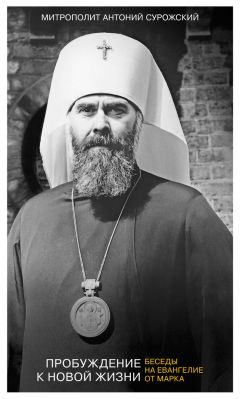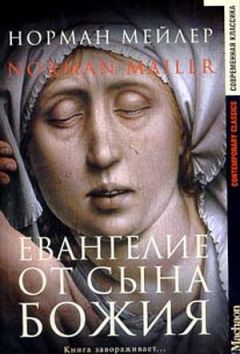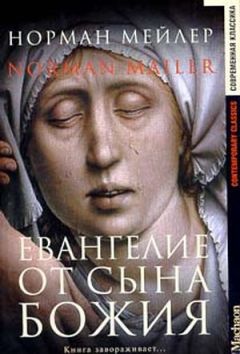Дэвид Митчелл - Тысяча осеней Якоба де Зута
— Господа, — переводит Кобаяши, — в Зале шестидесяти циновок магистрат и много советников. Вы должны выказывать такое же почтение магистрату, как сегуну.
— И магистрат Широяма его получит, — заверяет переводчика Ворстенбос. — Ровно в той мере, в какой заслуживает.
По лицу Кобаяши видно, что он сомневается в этом…
Зал шестидесяти циновок просторен и укрыт от солнечных лучей. Пятьдесят или шестьдесят истекающих потом, обмахивающихся веерами официальных лиц — все важного вида самураи, — сидят точным прямоугольником. Магистрата Широяму узнать легко: он по центру на специальном возвышении. Пятидесятилетнее лицо выглядит уставшим от долгого пребывания на высоком посту. Свет попадает в зал из залитого солнцем двора, усыпанного белой галькой. В южной его части растут миниатюрные сосны и высятся покрытые мхом скалы. Колышутся занавески, закрывающие выходы на восток и запад. Охранник с могучей шеей выкрикивает: «Оранда Капитан!» — и проводит голландцев в прямоугольник придворных к трем алым напольным подушкам. Мажордом Томине говорит, Кобаяши переводит: «Пусть голландцы выкажут почтение».
Якоб опускается коленями на подушку, кладет папку сбоку и кланяется. Справа, чувствует он, ван Клиф делает то же самое, но, выпрямившись, видит, что Ворстенбос по-прежнему стоит.
— Где, — директор поворачивается к Кобаяши, — мой стул?
Вопрос, как и рассчитывал Ворстенбос, вызывает молчаливый переполох.
Мажордом о чем‑то коротко спрашивает переводчика Кобаяши.
— В Японии, — краснеющий Кобаяши отвечает Ворстенбосу, — сидение на полу не считается позором.
— Приятно слышать. Но мне более удобно на стуле.
Кобаяши и Огава должны умиротворить рассерженного мажордома и утихомирить упрямого директора.
— Пожалуйста, господин Ворстенбос, — говорит Огава, — в Японии стульев нет.
— Неужели нельзя что‑нибудь придумать, чтобы ублажить высокого гостя? Ты!
Чиновник, на кого указал голландец, замирает и касается кончика своего носа.
— Да! Принеси десять подушек. Десять. Ты понимаешь, что значит «десять»?
Оцепеневший чиновник переводит взгляд с Кобаяши на Огаву и обратно.
— Смотри! — Ворстенбос поднимает с пола подушку, трясет, бросает на пол и показывает десять пальцев. — Принеси десять подушек! Кобаяши, объясните этому головастику, чего я хочу.
Мажордом Томине требует ответа. Кобаяши объясняет, почему директор отказывается от поклона, а в это время на лице Ворстенбоса играет снисходительно — пренебрежительная улыбка.
Зал шестидесяти циновок замирает в молчании, ожидая реакции магистрата.
Широяма и Ворстенбос какие‑то мгновения смотрят друг на друга.
Затем на губах магистрата появляется легкая улыбка победителя, и он кивает. Мажордом хлопает в ладоши: двое слуг приносят подушки и укладывают друг на друга. Ворстенбос сияет от удовольствия.
— Видите, — говорит директор своим спутникам, — решительность вознаграждается. Директор Хеммей и Даниэль Сниткер унизили наше достоинство, пресмыкаясь перед ними, и теперь мне приходится добиваться утерянного уважения! — Он плюхается на горку подушек.
Магистрат Широяма что‑то говорит Кобаяши.
— Магистрат спрашивает, удобно ли вам теперь? — переводит тот.
— Спасибо, Ваша честь. Теперь мы сидим лицом к лицу, как равные.
Якоб предполагает, что Кобаяши опускает последние два слова Ворстенбоса.
Магистрат Широяма кивает и выдает длинную тираду.
— Он говорит, — начинает Кобаяши, — «поздравляю нового директора с прибытием» новому директору и «добро пожаловать в Нагасаки», и «добро вновь пожаловать в магистратуру» заместителю директора, — Якоб, простой клерк, не удостаивается внимания, то есть отдельной приветственной фразы. — Магистрат надеется, что путешествие выдалось не слишком «утомительным», а также надеется, что солнце не слишком сильное для нежной голландской кожи.
— Благодарю вашего хозяина за заботу, — отвечает Ворстенбос, — но будьте уверены, по сравнению с Батавией в июле, нагасакское лето — детская забава.
Широяма согласно кивает головой, выслушивая перевод, словно подтвердились все его давнишние подозрения.
— Спросите, — приказывает Ворстенбос, — наслаждается ли его честь подаренным мной кофе?
После этого вопроса, замечает Якоб, придворные переглядываются. Магистрат не торопится с ответом.
— Магистрат говорит, — переводит Огава, — что «вкус кофе не похож ни на какой другой».
— Скажите ему, что наши плантации на Яве могут поставить достаточно кофе, чтобы насытить бездонный желудок Японии. Скажите ему, что будущие поколения будут благословлять Широяму как человека, открывшего этот волшебный напиток для своей родной страны.
Огава надлежащим образом переводит, но предположение директора энтузиазма не вызывает.
— Магистрат говорит, — объясняет Кобаяши, — что «у Японии нет аппетита к кофе».
— Ерунда! Когда‑то кофе не признавали в Европе, но теперь на каждой улице в наших великих столицах есть своя кофейня… а то и десять! На этом сколачивают огромные состояния.
Широяма намеренно меняет тему разговора, прежде чем Огава успевает перевести.
— Магистрат выражает сочувствие, — говорит Кобаяши, — в связи с гибелью «Октавии» на обратном пути прошлой зимой.
— Это любопытно, так и скажите ему, — отвечает Ворстенбос, — что наша дискуссия о кофе вдруг повернула к потерям, которые понесла всеми уважаемая Компания в своем стремлении принести процветание в Нагасаки…
Огава чувствует приближение беды, но ничего не может поделать, продолжая переводить.
Лицо магистрата Широямы недовольно вытягивается.
— Я привез срочное коммюнике от генерал-губернатора на ту же тему.
Огава поворачивается к Якобу: ему требуется помощь.
— Что такое «коммюнике»?
— Письмо, — шепотом отвечает Якоб. — Дипломатическое послание.
Огава переводит; Широяма показывает руками: «Давайте его сюда».
С горы подушек Ворстенбос согласно кивает головой своему секретарю.
Якоб развязывает тесемки папки, вытаскивает только-только законченное письмо от «Его превосходительства П. Г. ван Оверстратена» и двумя руками протягивает мажордому.
Мажордом Томине кладет письмо перед своим хозяином, на лице которого нет и тени улыбки.
Зал шестидесяти циновок следит за всем с нескрываемым любопытством.
— Самое время, господин Кобаяши, — говорит Ворстенбос, — предупредить этих господ — и, особенно, магистрата, — что наш генерал-губернатор шлет ультиматум.
Кобаяши смотрит на Огаву, который спрашивает: «Что такое «ультим»?»
— Ультиматум, — поясняет ван Клиф, — это угроза, требование, жесткое предупреждение.
— Очень неудачное время, — Кобаяши качает головой, — для жесткого предупреждения.
— Но ведь магистрата Широяму надо уведомить как можно раньше, — заботливость в голосе директора Ворстенбоса прямо‑таки приторная, — что Дэдзима будет заброшена после нынешнего торгового сезона, если только Эдо не даст нам двадцать тысяч пикулей.
— «Заброшена», — повторяет ван Клиф, — означает оставлена, покинута, закончена.
Лица двух переводчиков бледнеют на глазах.
В душе Якобу становится неловко, ему жаль Огаву.
— Пожалуйста, — Огава глотает слюну, — не надо таких новостей сейчас, здесь…
Лишившись терпения, мажордом требует перевода.
— Лучше не заставляйте его честь ждать, — говорит Ворстенбос Кобаяши.
Слово за словом, запинаясь, Кобаяши передает ужасную новость.
Вопросы летят со всех сторон, но ответы Кобаяши и Огавы тонут в новых криках. Во время этой суматохи Якоб замечает человека, сидящего в трех подушках слева от магистрата Широямы. Его лицо настораживает клерка, пусть он и не может определить почему. Также Якоб не может угадать его возраст. Бритая голова и морского цвета одежда говорят о том, что он — монах или даже духовник. У него плотно сжатые губы, нос крючком, а глаза полны сверкающего ума. Якобу так же трудно оторваться от яростного взгляда этого человека, как книге самой по себе избежать интереса читателя. Молчаливый наблюдатель резко отворачивает голову, словно охотничий пес, вслушивающийся в звуки, издаваемые дичью.
Глава 5. СКЛАД «КОЛЮЧКА» НА ДЭДЗИМЕ
После ленча 1 августа 1799 г.
В жару шестерни и рычаги времени разбухают и цепляются друг за друга. В душном сумраке Якобу слышится, как шипит сахар в ящиках, превращаясь в слипшиеся комки. Когда придет День аукциона, сахар продадут торговцам пряностей за гроши: как им прекрасно известно, в противном случае сахар вернется в трюмы «Шенандоа», чтобы бесприбыльным грузом проследовать на склады Батавии. Клерк выпивает чашку зеленого чая. Горечь отстоя на дне заставляет его поморщиться, усиливает головную боль, но прочищает мозги.